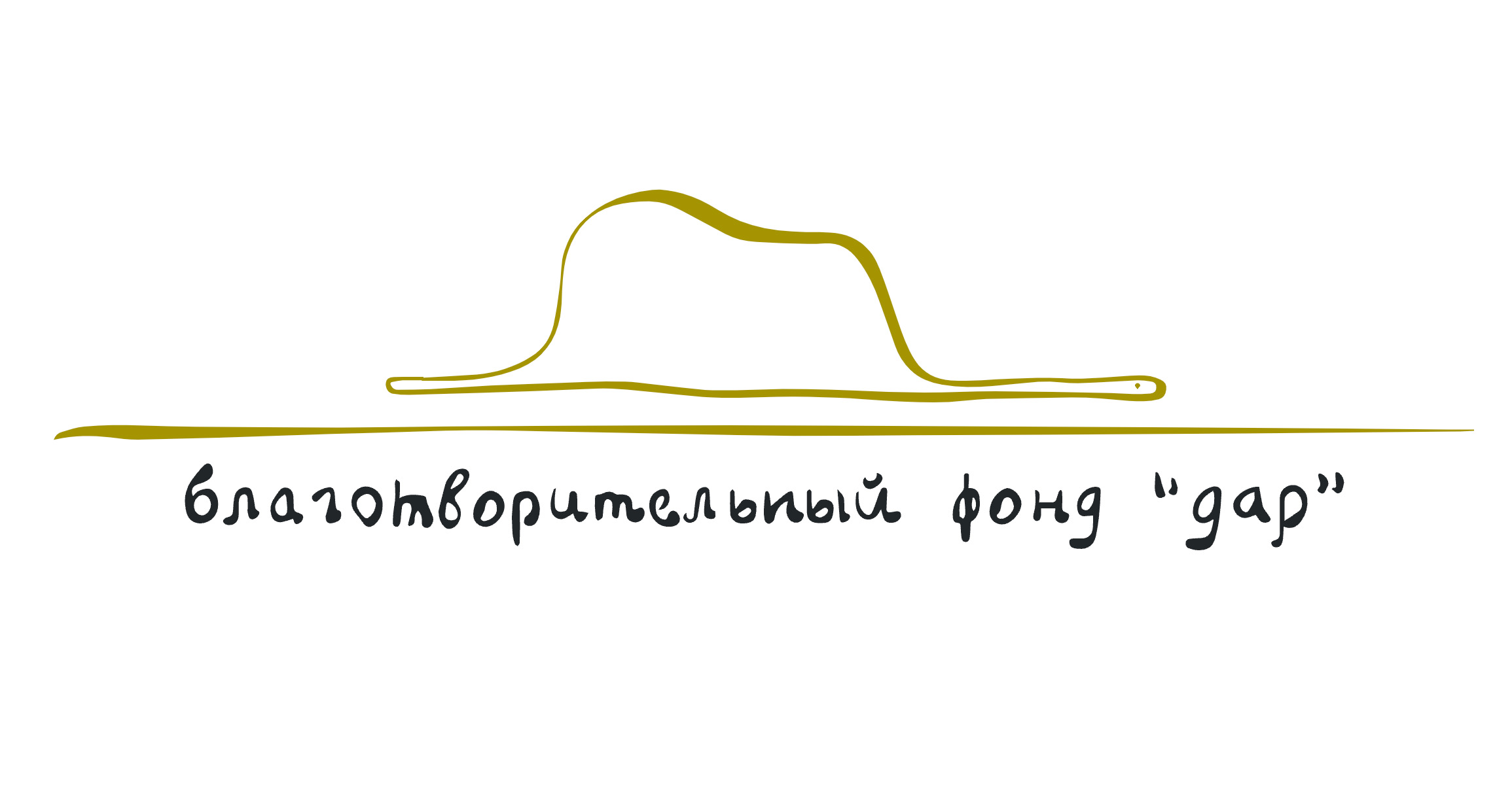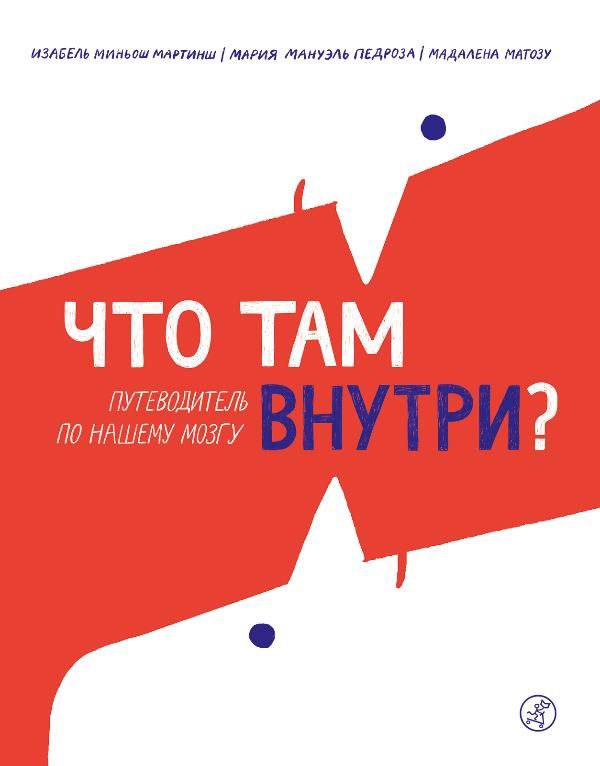Маятник литературных вкусов постоянно качался от разума к чувствам, от строгой ясности к замысловатой усложненности (от реализма к романтизму – если брать их в предельно широком смысле). После рациональной и жизнерадостной эпохи Возрождения последовало усложненное и разочарованное барокко. Но вскоре маятник опять качнулся в сторону рассудка и порядка. Так возник классицизм.
- Произошло это во Франции в начале XVII века – гораздо раньше, чем в других странах. Барокко во Франции очень скоро сдало свои позиции и стало синонимом дурного вкуса. Обычно это связывают с особенностями французского ума («менталитета», как теперь говорят) – рационального и насмешливого, не склонного к туманным тайнам, мистике и, как ни странно, бурным эмоциям. Во Франции и романтизм появился позже, чем в других странах, и выглядел довольно бледно (разве что Виктор Гюго стал романтиком мирового значения). А вот созданный французами классицизм («большой стиль», подчинивший себе всё – от архитектуры до пудреных косичек) постепенно распространился по всему «цивилизованному миру», подмял под себя национальные обычаи и вкусы и царил почти 200 лет. Кое-где эта художественная система продержалась до 30-х годов XIX-го века, хотя в конце XVIII века классицизм уже был бурно, мятежно и с возмущением (по-своему заслуженным) свергнут романтизмом.
- Термин «классицизм» восходит к латинскому слову «classicus» – образцовый. Первый признак, по которому «узнают» классицизм, – подражание античным образцам, своего рода игра в античность. Почти 200 лет (если говорить о Франции) культура рядилась в античные одежды – этакий затянувшийся карнавал. Дома строились непременно с колоннами, хотя это имело смысл разве что в Италии: античные портики призваны создавать приятную тень и легкий сквознячок, чтобы легче переносить южный зной. Когда такие колонны появляются в России, это чистая декорация. Зачем нам сквознячок? Нам бы стены потолще, а окошки поменьше, чтобы сберечь тепло лютой зимой. Еще бессмысленней подражание (очень условное) античности в бальных туалетах дам. Открытые плечи и «ложноклассические» шали, не спасавшие от холода в сенях и каретах, были причиной множества простуд. А мода все равно держалась… Не говоря уже об именах (всех этих Клитах и Лициниях) и бесконечных мифологических аллюзиях.
- Этот признак (подражание античности) – самый заметный, но все-таки не главный. Эпоха Возрождения тоже подражала античности, но делала это совершенно иначе. Возрождению античность показала красоту земного (материального, телесного) мира и человека в том числе. Это главный смысл художественных открытий, сделанных в то время. Классицизм же любит в античности не свободу естества, а как раз наоборот – жесткую упорядоченность форм, меру, закон и порядок.
- Появление классицизма обычно связывают со становлением абсолютной монархии. После религиозных войн и неограниченного самоуправства крупных феодалов установление сильной верховной (королевской) власти во Франции казалось высшим благом. Вопрос: что общего у государственного строя (сильной абсолютной монархии) и эстетических законов, которым подчинялись в равной мере архитекторы и поэты? (Причем добровольно подчинялись, не из-под палки государственной! Или – не только из-под палки…) Ответ: почтение к иерархии, упование на нее как на залог гармонии и всяких благ. Термин «иерархия» имеет греческое происхождение («иеро» – священный, «архе» – власть) и может применяться как в широком смысле («расположение частей или элементов целого в порядке от низшего к высшему»), так и в узком, собственно «государственном» («расположение служебных званий, чинов в порядке их подчинения»). Такая жесткая градация («иерархическая лестница»), с точки зрения современного человека, далеко не единственный способ даже просто навести порядок, не говоря уже о том, чтобы создать гармонию. Но целых два столетия такое мнение сочли бы варварством и дикостью. То, что государство видело себя в образе знаменитой пирамиды (внизу народ, над ним дворяне, а выше всех король – один, как Бог на небе), еще можно понять. Но вот то, что и искусство с искренним рвением все делило на «высшее» и «низшее» (жанры, стили, даже просто слова), – в это теперь трудно поверить. И тем не менее надо признать и уяснить: классицизм не всегда воспевает абсолютную монархию (под конец он и революцию увековечит в том же псевдоантичном стиле), но всегда – иерархию, превосходство высшего над низшим. Одно он превозносит, другое – клеймит. Прямолинейно и неумолимо.
- У этой страсти к иерархии есть философское обоснование. Его сформулировал французский мыслитель Рене Декарт. Обычно его знают как создателя системы координат и вообще как математика. Но он был и ярким философом, создавшим свою мировоззренческую систему, которую называют «картезианство». Декарт искал ответа на вопрос: что в человеке ближе всего к Богу? Что является связующим звеном между твореньем и Творцом? И пришел к выводу, что разум. Декарту принадлежит знаменитая формула: «Мыслю – следовательно, существую» («Cogito ergo sum»). Таким образом, разум – это высшее начало в человеке, а мысль – своего рода «канал связи» между человеком и Богом. И только гласу разума человек может доверять, если хочет жить праведно. То, что так думал математик, по-своему понятно и логично. Но так же думала и целая эпоха.
- Классицизм изображает не просто иерархическое устройство мира (с разумом или разумным королем во главе), а вечную борьбу высокого и низкого, правильного и, наоборот, ошибочного и губительного. Классицизм любит гармонию, но мир при этом считает дисгармоничным, полным низменных начал. И только в напряженной борьбе с силами хаоса и разрушения можно удерживать в гармонию и в государстве, и в своей душе, и в художественном произведении.
- Классицизм не знает полутонов, он всегда судит однозначно: или положительный, или отрицательный, или герой, или злодей, или добро, или зло… Система антитез (противопоставлений, противоречий), свойственных классицизму, такова:
| + | - |
| Разум | Страсти |
| Государство | Личность (эгоизм) |
| Долг | Чувство |
| Общее | Личное |
| Цивилизация (космос) | Природа (хаос) |
Разум – воистину и царь, и бог эпохи классицизма. Разум обязан знать, что хорошо, что плохо, и неизменно бороться с «плохим». А что нас губит? Безответственный произвол страстей, заставляющий поступать себе во вред. С этим трудно спорить, разве что можно усомниться, что разум в одиночку способен преуспеть в борьбе со страстями.
Очень понятна вторая антитеза. Абсолютная монархия при своем становлении склоняет к себе симпатии простых граждан именно тем, что обуздывает безудержный эгоизм крупных феодалов. Однако если следовать этой логике дальше, то государство всякое желание отдельной личности жить по своему разумению и ради каких-то своих скромных (эгоистических, маленьких, мещанских) целей будет считать презренным и даже преступным. Нет, личное нужно забыть, отложить, принести в жертву великому «общему делу».
Сталинская эпоха увековечила себя в стиле, больше всего похожем именно на классицизм. И колонны, и симметрия, и воспевание государства, и постоянное утверждение, что все силы, жизнь, здоровье, помыслы человека должны быть отданы великому делу построения коммунизма…
Когда же речь заходит о высшем литературном достижении классицизма – классицистической трагедии, то в ход идет третья формулировка: конфликт долга и чувства. На этом конфликте строятся все трагические сюжеты эпохи.
В четвертой строчке скобки означают то, что мы просто обобщили сказанное выше. Классицизм общее ставит над личным и в частной жизни, и в государственной. Об этом можно не говорить, если всем и так уже всё понятно.
Последняя строка актуальна, когда речь идет о живописи и о садово-парковом искусстве. На картинах мы не увидим изображения «дикой» природы вплоть до романтизма. Никакие мишки в сосновом бору, никакие горные перевалы К.Д. Фридриха или девятые валы Айвазовского не понравились бы публике ни в XVII-м, ни в XVIII-м веке. Самое простое объяснение: дикую природу элементарно боялись. А страшное считалось в ту эпоху безоговорочно «безобразным» (а не «прекрасным»). Мы сейчас редко имеем с дело с дикой природой, чувствуем себя очень защищенно в своей городской среде, и потому нам даже нравится смотреть на пейзаж, в котором нет следов человеческого присутствия. Мы подзабыли, что вплоть до XIX-го века наши предки вели с природой бесконечную войну просто за собственное выживание. Мы и теперь бессильны перед извержением вулкана, цунами или молнией. А окажись мы в тайге или в болотах Амазонки, наверно, тут же вспомнили бы, как страшна эта прекрасная природа. Море, лес и горы всегда угрожали смертельными опасностями. Это хорошо передает Д. Дефо в своем «Робинзоне Крузо». Как Робинзон отгораживался от «природы» частоколом! И как она не хотела выпускать его из своих цепких и жутких когтей, когда уже в Европе, на горном перевале между Испанией и Францией, на его караван нападает стая волков.
Таким образом, природа для классицистов ассоциируется со всеми разрушительными началами. И с человеческим страстями (что логично: ведь это и есть поврежденная человеческая природа), и с антигосударственными происками мятежников. А «цивилизация», наоборот, символизировала победу все того же разума над бессмысленными стихиями.
Нельзя сказать, что природу совсем не изображали. Изображали – но обязательно «облагороженную» архитектурой и людьми. Кроме того, тщательно разделенную на «планы», словно это театральные декорации: кулисы и задник. Да она, собственно, и становится на этих картинах всего лишь фоном для главных действующих лиц.
Природа является тем материалом, из которого создаются сады и парки. А их создание тоже считается искусством. В эпоху классицизма возникает «французский», или «регулярный», тип парка со строгой симметрией, геометрически расчерченными дорожками, правильно чередующимися статуями, деревьями и кустами, постриженными или по линеечке, или в виде геометрических фигур (шаров, пирамид и т.п.). Ему традиционно противопоставляют парк «английский» – «ландшафтный», или романтический.
Искусствовед Н.А. Дмитриева пишет: «В английском парке, воспринявшем многое от садово-паркового искусства Китая, имитируется естественная природа: запутанные тропинки, заросли кустов и деревьев, укромные лужайки. Гуляя по такому парку, вы неожиданно набредаете на ручей с перекинутым через него мостиком, на уютную беседку или вдруг замечаете статую, смутно белеющую сквозь густую зелень. Такой «натуральный» парк вы найдете в Павловске под Петербургом, в Алупке вокруг Воронцовского дворца.
Французский парк – это парк регулярный, где природа подчинена строгой архитектонике зодчего. Дорожки выровнены, аллеи прямы как стрелы, трава подстрижена, водоем имеет правильные геометрические очертания, кронам деревьев приданы правильные конусообразные или шаровидные формы. В этих чинных парках есть своя прелесть... Они особенно хороши вечером, в предзакатный час, когда золотое небо отражается в чашах бассейнов и длинные тени ложатся на песок четким решетчатым узором. Воображение рисует фигуры мужчин в камзолах и длинных париках, женщин с длинными шлейфами, медлительно и важно прогуливающихся по дорожкам. Этих призраков прошлого вызвал к жизни Александр Бенуа, писавший виды Версаля как бы сквозь дымку столетий, со смешанным чувством иронии, грусти и восхищения».
- Итак, от всех искусств классицизм требовал ясности, соразмерности частей, четкого плана, простоты и прославления разума. Это называлось, между прочим, подражанием природе. Классицизм был уверен, что он правдиво изображает природу: показывает ее идеальное «абсолютное» состояние, а не случайности реального земного воплощения. Произведения классицистов – это своего рода волшебное зеркало, которое, отражая природу, исправляет все недостатки, которые «случайно» привнесла в нее жизнь. Показывает не то, что есть, а то, что должно (по мнению художников) быть.
- Классицизм создал законченную эстетическую систему в виде дотошного свода правил для каждого искусства. В этом тоже проявилось его главное свойство – вера в абсолютную непогрешимость разума.
- Классицисты свято верили, что у красоты существуют точные законы («гармонию» можно и нужно «поверить алгеброй»). Эталоном красоты были для них античные «образцы». Из этого делался вывод: значит, в те времена лучше всего знали законы красоты и точнее всего им следовали. Чтобы научиться создавать произведения такой же совершенной красоты, нужно исследовать эти законы, описать их и тщательно подражать классике. Иначе говоря, творить исключительно по правилам и образцам.
- Для каждого из искусств правила, разумеется, свои: дом строить и музыку писать не одно и то же. И достижения классицизма в разных искусствах тоже разные. Лучше всего, на современный взгляд, архитектура той эпохи. Оно и понятно: это самый точный, «математичный» вид искусства (не просчитаешь конструкцию – здание рухнет). Несмотря на то, что «псевдоклассические» колонны обычно ничего не поддерживают (а бесполезное в архитектуре не приветствуется), все же строгая симметрия классицистических зданий действительно прекрасна. Московские особнячки до сих пор радуют глаз, хотя выглядят не парадно-возвышенными, а трогательно-уютными (что вообще-то в эстетике классицизма не предусматривалось). До нас их дошло немного: большая часть «классицистической Москвы» сгорела в 1812 году. И это по-настоящему большая потеря.
В живописи стремление к умозрительности (аллегорическим намекам, символическим композициям) и абстрактному совершенству приводит к погоне за холодноватым совершенством рисунка. Н. Дмитриева пишет о Никола Пуссене, что его античные аллегории совершенны до такой степени, что даже обнаженные фигуры нимф и богов не воспринимаются как изображение человеческой плоти. Это скорее именно изображение абстрактной красоты, почти бесплотное совершенство.
Вопросы и задания для закрепления материала
- Где и когда возник классицизм? Как долго оставался ведущей художественной системой?
- С появлением какой формы правления его обычно связывают?
- Что такое картезианство?
- Что такое иерархия?
- Какое свойство человека классицисты считали высшим началом?
- Назовите антитезы, свойственные классицизму.
- Каким образцам подражали классицисты? Что означает сам термин «классицизм»?
- Какой тип парка называют «французским»? Какой тип парка ему обычно противопоставляют?
Оксана Смирнова
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса
Мозаика
- 16.10.2016 - День учителя в Переделкино
- 1–31 декабря 2019 г. – Курс для учителей «О чтении» на сайте «Могу писать»
- Л.Н.Толстой «После бала»
- Обучение анализу поэтического текста. Методическое пособие С.Л. Каганович
- 27–29 ноября 2020 г. – Родительский интенсив Гильдии словесников
- Год языка и литературы Великобритании и России 2016