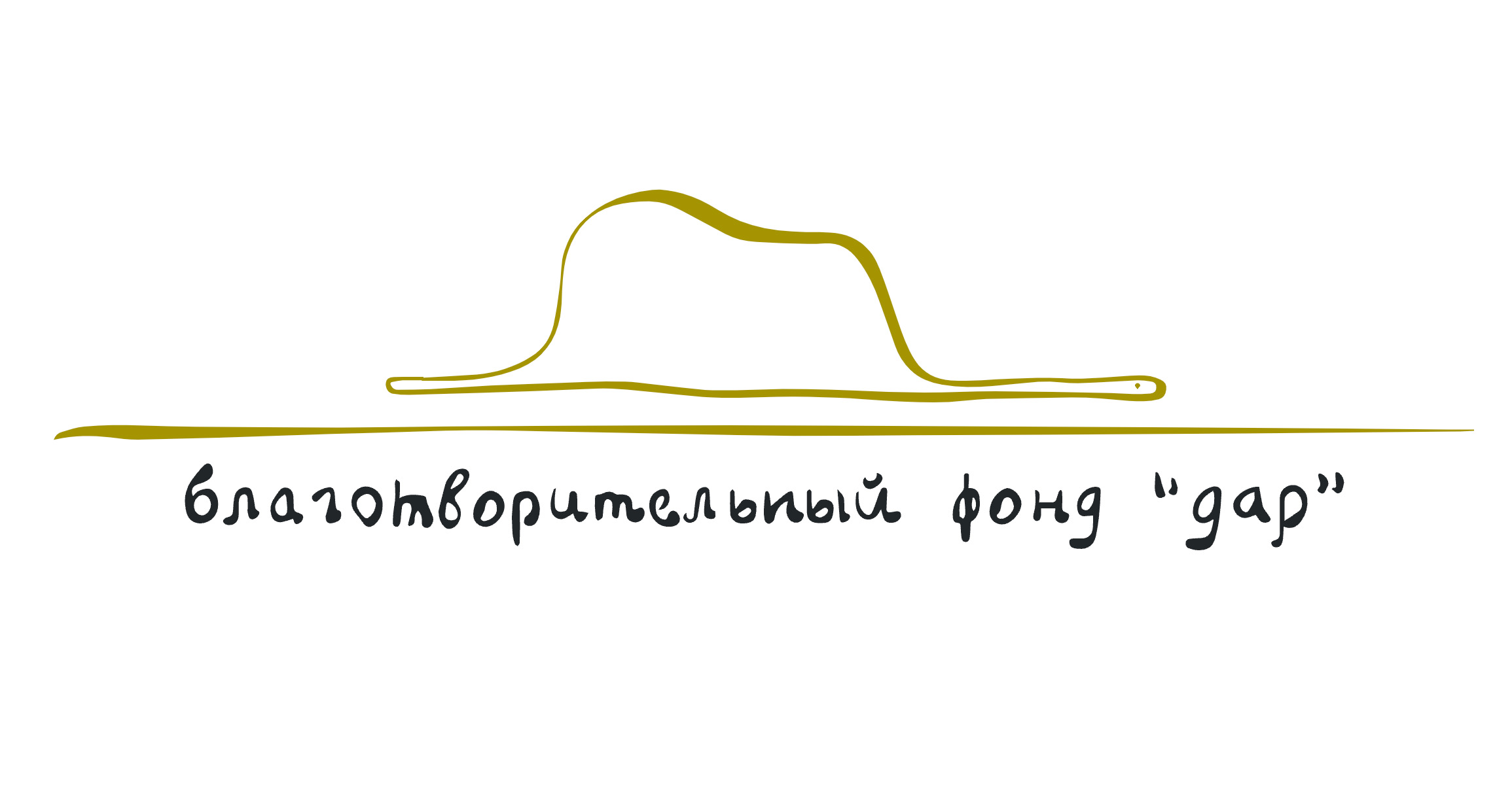Стихи поэтов-фронтовиков о войне. Составитель подборки – Герман Лукомников
Всеволод Багрицкий (1922—1942)
* * *
Мне противно жить не раздеваясь,
На гнилой соломе спать.
И, замерзшим нищим подавая,
Надоевший голод забывать.
Коченея, прятаться от ветра,
Вспоминать погибших имена,
Из дому не получать ответа,
Барахло на черный хлеб менять.
Дважды в день считать себя умершим,
Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.
1941
_______
Семён Гудзенко (1922—1953)
ПЕРЕД АТАКОЙ
Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв —
и умирает друг.
И значит — смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят
сорок первый год —
ты, вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был короткий.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.
1942
_______
Арсений Тарковский (1907—1989)
* * *
Немецкий автоматчик подстрелит на дороге,
Осколком ли фугаски перешибут мне ноги,
В живот ли пулю влепит эсэсовец-мальчишка,
Но все равно мне будет на этом фронте крышка.
И буду я разутый, без имени и славы
Замерзшими глазами смотреть на снег кровавый.
1942
_______
Николай Рыленков (1909—1969)
НАВОДЧИК
Не позабыть мне ночи той короткой...
Был май. В лесу черёмуха цвела.
Мы наступали, и прямой наводкой
Артиллеристы били вдоль села.
И, пробираясь меж коряг и кочек,
Когда рассвет вставал, от пепла сед,
Я слышал, приговаривал наводчик:
— Вот, в самый раз... Прости меня, сосед!
И вновь взлетало облако рябое,
И вновь шаталась от разрыва мгла...
А мы узнали только после боя,
Что парень был из этого села.
1942
_______
Юлия Друнина (1924—1991)
* * *
Я только раз видала рукопашный.
Раз — наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
1943
_______
Сергей Орлов (1921—1977)
* * *
Поутру, по огненному знаку,
Пять машин КВ ушло в атаку.
Стало черным небо голубое.
В полдень приползли из боя двое.
Клочьями с лица свисала кожа,
Руки их на головни похожи.
Влили водки им во рты ребята,
На руках снесли до медсанбата,
Молча у носилок постояли
И ушли туда, где танки ждали.
1944
_______
Ион Деген (1925—2017)
* * *
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Декабрь 1944
_______
Николай Панченко (1924—2005)
ВЕСНА НА ФРОНТЕ
Весна на фронте пахнет не фиалками —
бурлят из леса затхлые ручьи.
А там вповал —
январские, февральские,
немецкие, советские — ничьи.
В овчинных шубах,
как в звериных шкурах,
кто навзничь, кто ничком, кто на боку...
Весной на фронте очень много курят,
и вечно не хватает табаку.
1945
_______

Константин Левин (1924—1984)
* * *
Нас хоронила артиллерия.
Сначала нас она убила.
Но, не гнушаясь лицемерия,
Теперь клялась, что нас любила.
Она выламывалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми обугленными нервами
В натруженных руках медслужбы.
За нас молились леди Англии
И маркитантки полковые.
Нас интервьюировали б ангелы,
Когда бы были таковые.
Мы доверяли только морфию,
По самой крайней мере — брому.
А те из нас, что были мертвыми —
Земле, и никому другому.
Тут всё еще ползут, минируют
И принимают контрудары.
А там — уже иллюминируют,
Набрасывают мемуары...
И там, вдали от зоны гибельной,
Циклюют и вощат паркеты,
Большой театр квадригой вздыбленной
Следит салютную ракету.
А там по мановенью файеров
Взлетают стаи лепешинских,
И фары плавят плечи фрайеров
И шубки дамские в пушинках.
Бойцы лежат. Им льет регалии
Монетный двор порой ночною.
Но пулеметы обрыгали их
Блевотиною разрывною!
Но тех, кто получил полсажени,
Кого отпели суховеи,
Не надо путать с персонажами
Ремарка и Хемингуэя.
Один из них, случайно выживший,
В Москву осеннюю приехал.
Он по бульвару брел, как выпивший,
И средь живых прошел, как эхо.
Кому-то он мешал в троллейбусе
Искусственной ногой своею.
Сквозь эти мелкие нелепости
Он приближался к Мавзолею.
Он вспомнил холмики размытые,
Куски фанеры по дорогам,
Глаза солдат, навек открытые,
Спокойным светятся упреком.
На них пилоты с неба рушатся,
Крестами в тучах застревают...
Но не оскудевает мужество,
Как небо не устаревает.
И знал солдат, равны для Родины
Те, что заглотаны войною,
И те, что тут лежат, схоронены
В самой стене и под стеною.
1946—1984
* * *
Мы непростительно стареем
И приближаемся к золе.
Что вам сказать? Я был евреем
В такое время на земле.
Я не был славой избалован
И лишь посмертно признан был,
Я так и рвался из былого,
Которого я не любил.
Я был скупей, чем каждый третий,
Злопамятнее, чем шестой.
Я счастья так-таки не встретил,
Да, даже на одной Шестой!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но даже в тех кровавых далях,
Где вышла смерть на карнавал,
Тебя — народ, тебя — страдалец,
Я никогда не забывал.
Когда, стянувши боль в затылке
Кровавой тряпкой, в маяте,
С противотанковой бутылкой
Я полз под танк на животе,
Не месть, не честь на поле брани
Не слава и не кровь друзей,
Другое смертное желанье
Прожгло мне тело до костей.
Была то жажда вековая
Кого-то переубедить,
Пусть в чистом поле умирая,
Под гусеницами сгорая,
Но правоту свою купить.
Я был не лучше, не храбрее
Моих орлов, моих солдат,
Остатка нашей батареи,
Бомбленной шесть часов подряд.
Я был не лучше, не добрее,
Но, клевете в противовес,
Я полз под этот танк евреем
С горючей жидкостью «КС».
1947
_______

Ян Сатуновский (1913—1982)
* * *
Как я их всех люблю
(и всех убьют).
Всех —
командиров рот:
«Ро-та, вперед, за Ро-о...»
(одеревенеет рот).
Этих. В земле.
«Слышь, Ванька, живой?»
«Замлел.»
«За мной, живей, е́!»
Все мы смертники.
Всем
артподготовка в 6,
смерть в 7.
1942
* * *
Однажды ко мне пристала корова.
Я был тогда прикомандирован
к дивизии. Рано утром, тишком, нишком,
добираюсь до передового пункта, и слышу:
кто-то за мной идёт
и дышит, как больной:
оборачиваюсь — корова;
рябая, двурогая; особых примет — нет.
Май 1946
* * *
Сашка Попов, перед самой войной окончивший
Госуниверситет, и как раз 22-го июня
зарегистрировавшийся с Люсей Лапидус — о ком же ещё
мне вспоминать, как не о тебе? Стою ли
я — возле нашего общежития —
представляю то, прежнее, время.
В парк захожу — сколько раз мы бывали с тобой на Днепре!
Еду на Че́челевку, и вижу —
в толпе обречённых евреев
об руку с Люськой
ты, русский! —
идёшь на расстрел,
Сашка Попов...
Днепропетровск, 1946
* * *
Мама, мама,
когда мы будем дома?
Когда мы увидим
наш дорогой плебейский двор
и услышим
соседей наших разговор:
— Боже, мы так боялись,
мы так бежали,
а вы?
— А мы жили в Андижане,
а вы?
— А мы были в Сибири,
а вы?
— А нас убили.
Мама,
так хочется уже быть дома,
чтоб всё, что было, прошло,
и чтоб всё было хорошо.
* * *
Ты, вечно хныкающий о своем больном здоровьи,
ты, мнительный,
ты, слабовольный,
малокровный,
остерегающийся — сырой воды,
очередей,
сигналов автомашин,
случайных скандалов,
уличных собак —
ты, как ты воевал, как?
Не знаю, ничего не знаю.
Ни зноя малинового, ни звона,
ни сна и ни солнца, ничего;
а знаю — бьётся, бьётся сердце, бьётся не переставая,
а с груди
простреленной — льётся что-то,
медленно натекает в сапоги.
* * *
Им говорят, а они молчат.
— Ребята, — говорят.
— Герои, — говорят.
— Решительный час настал.
— Вперёд, — говорят, — назад.
Им говорят.
Ну, что ж ты молчишь?
Не молчи, мычи.
Вой, Иван.
Сейчас тебя на убой.
Я тоже, я с тобой.
Я рядом, кричу — вставай,
кричу — давай,
кричу...
Кому-то надо кричать.

* * *
Я их не не ненавидел,
пока я их не увидел.
Они все были как душевно-больные,
«Фриц, а, Фриц, хочешь пить?» —
еле двигались и быстро что-то говорили, —
«скажи Гитлер-капут».
Не я, не я, а косомордый писарь —
«Ну, Фриц, сказал Гитлер-капут?» —
постоял за углом и вынес полную флягу —
«на, враг, пей русский суп».
Не я, не я, а ваши вшивые фрицы —
«жид, а, жид, хочешь пить?» —
облизываясь, долго глотали жёлтую влагу,
«жид, а жид, перекрестись».
* * *
Мне снилось: я еду на грузовике.
Ни
вспышки зелёных ракет,
ни
зги.
И вдруг начинают стрелять.
И самая первая пуля,
визжа и сверля,
разнимает мне грудь
и застревает внутри.
И я просыпаюсь.
Я жив.
* * *
Преступление и наказание?
всё в порядке! — лейтенант,
повторите приказание:
— есть, приказано расстрелять;
ни толстовщины,
ни достоевщины,
освежила душу война-военщина:
наградные листы,
поощрения
(крест у них,
у нас звезда);
Мне отмщение
и Аз воздам.
* * *
Вспомни — только разве вспомнишь,
льдом ли, кварцевым стеклом ли полон
чортов тот кювет, тот, в который
вмёрзшие, лежим мы на обочине
между мёртвой автомашиной и
хохочущей мордой лошадиной —
там, на каких-то подступах к Москве.
1953
* * *
Я о ней вовсе нисколько не думаю,
я о ней просто и думать забыл;
брат не вернулся, так это двоюродный,
я его, в общем, не очень любил;
даже, выходит, оплакивать некого,
так что, выходит, её как и не было,
не о чём думать, забудь, —
а она —
вот она,
бьётся,
держите,
война!
1957
* * *
Я не хочу воевать
и никогда и нигде
я не смогу убивать
грязных вонючих людей,
жалких — коленки дрожат,
слёзы стекают со щёк,
страшных, с кинжалом в зубах
братьев моих и сестёр
я не смогу убивать.
6 января 1959
* * *
«Фазан взорвался,
как фейерве́рк...»
Или вот у Ренара:
«куропатки открываются,
как зонтики».
Как, как, как.
Сам я этого не вижу.
Я только раз в жизни ошибся,
приняв взрывы бомб на снегу
за кусты и деревья.
17 ноября 1965
* * *
Было,
и осталось,
и забыть не могу,
как я шёл со станции
в крови и в снегу.
Шла навстречу
девочка,
ребёнок лет пяти.
Смахнула меня веничком
с своего пути.
1 февраля 1966

* * *
...и каждый думал, и молчал
О чем-то...
М. Исаковский
По радио — военачальники.
А я́
с молчанием
рифмую 9 ма́я, —
о том,
о чём мы молчали.
9 мая 1970, Ялта
* * *
...оказывается,
победили не мы,
победили они,
а мы,
а мы поражены...
22 февраля 1975
_______
Михаил Панов (1920—2001)
НОЧЬЮ
Приехали ночью, вкопали ЗИС-3.* К пяти замаскировали ее.
Не спалось. Я лежал на снегу под двумя задубелыми шинелями.
Слепо светили две звезды, да и те пропали.
Дышал, дышал на руки: от холода одеревенели.
Вспомнил: «Она пришла с мороза раскрасневшаяся...»
Родной для меня это стих! Это Блок!
(Книгу-то взводный, гад, зажилил, — думаю в полусне. —
А ведь нес ее от Кавказа... и всегда... как зеницу ока...)
Натаскиваю, натягиваю шинель, чтобы укрыться с головою.
Рвет ветер! Ко мне сочатся его ледяные потоки.
Медленно вырастает звук порывистый и воющий:
«Мессершмит»? Или может... нет, не «фокке-вульф».
Думаю о судьбе русского свободного стиха:
будущее — за ним. И совсем не бескрылый,
не безвольный, вранье: это стих глубокого дыханья,
яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл.
К шести забылся. Резало от ремня и кобуры, неснятых на ночь.
В кармане тихо шелестели часы (трофейные, анкерные).
В семь ноль-ноль на высоте 120 и две десятых
Бешено и мертво застучали немецкие танки.
1942
______________
* Противотанковая пушка.
* * *
Смеется,
и ямочка на щеке.
Снег не тает
на добрых, на серых ее глазах.
Рука
жадно вцепилась в живую траву.
Не разжать.
1942
* * *
Убит в начале атаки.
Одеревенел;
юношески тонкая шея
и слабые руки.
Что делала его мать
(там, далеко... сквозь вьюги),
когда он в последний раз
вспомнил ее и позвал?
Стояла в очереди? Шила?
В этот миг
(пуля, раскрошив височную кость,
стала входить в молодую ткань мозга)
весь свет для нее
навсегда
стал мертв и пуст.
РУКА
Зима. Сухой иней на стенах траншей.
Руки прикипают к стволам карабинов.
Прорези танков белым, гляди, замшеют.
Пушечная смазка — топором руби.
А ночью... Отточенный мороз.
Каленые звезды резко сверкают.
И тьма распростерлась тихо и грозно...
Но мне помогает рука.
В траншее. Из стены. Как стекло.
Это их снайпер, в крестах, знаменитый.
Зарыли — а тут наша щель по склону.
В оттепель рука его вышла. Замерзла. Звенит.
Темно. Ногой на ходу пробую: есть! Рука!
Значит, рядом — блиндаж, я дома.
Но осторожно. Здесь лед... покато...
А я из караула... Последние шаги — с трудом.
Да, принимаю услугу убитого врага.
Смертью мир уже не оскверняя,
Нам без злобы и коварства помогает
Его ольдевшая пятерня.
Человек? И по нему плачут? Забудь. Заглуши.
Не то всем людям... Разве тебе не понятно?
Люблю я фашистов:
когда они в землю вмерзли. И звенят.
1943

РАССКАЗ СНАЙПЕРА
На нем, видишь, оружие висит. Да!
В Днепропетровске (там немцы стояли).
На нем оружие висит,
и сам — гладкий, сытый такой офицер.
Уважаемый среди своих.
...У одних там — ну, учителей (вроде так);
по приказу коменданта остановился, живет.
И на нем, значит, оружие висит.
Девушку, дочку хозяев вежливо приглашает
Тра-ля-ля, по-немецки, видишь ли, — в театр.
Идут (вечер) по улице. Народу мало.
Он ее под руку. Остановился.
Два шага отошел, к столбу, помочился.
И снова под руку ведет. В театр.
Победитель.
Вот потому
я,
когда их
несколько штук
не убью, —
загубленным
считаю день.
Как будто я его не прожил,
а проссал.
У Надюшки моей, ты понимаешь,
как будто на виду — проссал! Так стыдно.
Но я счастливый,
и бывает —
я их в день
по три,
по четыре
беру. Пока светло.
А ко дню, когда победим,
я Наде моей поднесу подарок:
полтыщи.
Понимаешь: полтыщи!
...Не подарил.
Убит
1945
ПОБЕДА
Вечер умер.
Еще крошится бормотня в окопах.
Черствые шутки
из солдатского вещмешка:
— Ты, брат, башку
поверх окопа не суй.
Сделают тебе в набалдашнике дырку —
чем будешь ее затыкать?
...Посмеялись
и размыты,
разъяты весенней ночью... сном.
А утром!
Человек перескочил бруствер
и пошел по траве.
Днем. В рост. Спокойный.
Идет! Живой!
(Христос, идущий по водам... Чудо!)
Не верю! Остолбенел. Почему?!
Все во мне кричит...
Понял:
победа!
1945. Карпаты. После ухода немцев.
СТРОИТ РОЖИ
Преуморительно строил он рожи,
чтобы мы его не заели.
Мы, озлобленные солдаты с востока,
его, лояльного немца.
Забавные штуки он делал
со своими губами, щеками, носом, глазами —
чтобы мы не забили его,
лояльного немца.
Служил нам, будто ученый пёсик.
Несет огромную миску с дымящимся супом
(мы его подкармливали, чем могли,
из своего пайка) —
несет — рожи смешные строит.
Ногами — осторожно припляс творит,
чтобы ему не так было страшно
и не очень позорно —
а мы бы смеялись, легко, без издевки.
И мы без издевки смеялись.
Маратов, наглый облупленный нос,
спросил у лояльного немца
(собрав, видно, крохи deutsch’а,
нерадиво учимого в школе):
— «Вы учитель. Скажите,
учили детей:
великий Гитлер,
и всем вам, детишки, надо
ползать перед ним? Благоговея?»
Немец помолчал
и ушел.
Рожу сделал.
А вечером (коптилка бросила
повально-качаемые выродки-тени
на стены и потолок):
— «Да, я учил. Но старался
меньше о нем говорить. Старался
где мог, молчать. О, что я мог!
О, что я мог!»
(Мы думали — снова он за кривлянье,
но он, кривляясь, плакал.)
— «Я не хотел, чтобы всех убивали — вас,
нас, нашу славу, нашу лиричность...
Я не хотел! Что я мог сделать?
Встать и крикнуть проклятье?
Вода сомкнулась бы — и всё!
И нет меня. Ни всплеска,
ничего бы — ровная вода!
Что я мог, что я мог!»
Стонал, плакал, томился
лояльный немец.
Сто миллионов легли в землю.
Города — на востоке, на западе —
пошли в щебень и пыль.
1945
КРУТИЗНА
Многолиственно-мудрый
и грозно-каменный
горный край...
Армия идет,
рассыпаясь по крутизне,
идет,
все бросает,
все оставляет врагам:
небо,
листву,
солнце,
нагретые
камни,
онемевших
от горя
женщин.
Нет,
бросает не все:
выхватывает,
выметает
из селений,
берет от теплых отчих слепых очагов
семнадцатилеток,
годных в солдаты.
Мальчики,
прутики с тонкими листьями,
изнемогая,
помня о ласке мамы,
бредут, бредут,
еще без формы,
еще без оружия, но уже
солдаты.
Клятвой
впаяны в армию. Упадут, без силы,
на землю;
на землю тихо сползет слеза.
И снова —
(срываются камни,
падают в жерла земли)
снова
бредут
по каменно-крутой войне.
А ночью
половина их исчезает.
Тайными тропами,
назад,
несмышленыши,
к маме,
к огню!
(Не думают? Не знают? —
завтра
пойдут они строем
в немецких
паучьих
ротах
и будут стрелять
в одногодков, в братьев.)
Ночь побледнела.
Пять офицеров,
волнуясь, тайно —
в автомашины.
И перед самым приходом немцев,
за полчаса
въезжают в оставленные селенья.
Мальчики —
дома,
радуются: ушли!
Взяли
беглецов.
Из постелей,
от обильных столов,
из рук матерей —
в машины!
К нам, в полки, в корпуса!
Привезли.
Выходи!
Мальчишки смеются: поймали!
Как учитель пения их недавно ловил,
когда, озорные, они убегали с уроков.
А утром...
Войска построены в каре.
Вырыта яма.
«Военный трибунал...
К расстрелу».
Хрупкие их тела,
детишек,
упали
в земляную дыру.
Засыпали и прошли
по могилам их
тысяченогим строем.
Землю —
в камень.
Сапогом.
Прекратились
ночные побеги.
Ни шороха
ночью,
ни шага...
И снова
армия шла,
рассыпаясь по каменной круче,
оставляя за собой селенья...
Помнит ли это далекое утро
тот, кто давал приказ?
Мучит ли его
это древнее утро?
Помнят ли те,
кто стрелял в детей?
Кто трамбовал
сапогами
землю?
Нельзя было
этот приказ отдавать.
Нельзя —
не отдать.
Сквозь жизнь и смерть проходит это мученье.
Нельзя обвинить
и простить нельзя.
Война.
1946
ДЕКАБРЬ СОРОК ШЕСТОГО
Кончилась громкая гибель!
Всюду, везде
ходят люди, не пригибаясь.
Не растут вокруг них
кусты стремительной смерти.
Не вздымаются до небес сады
из дыма, и пепла, и криков.
Не так уж страшно стало теперь
быть человеком:
можно не прикидываться, хитря,
кустом, землей, зверем, снегом, пустотой.
О вы! За много лет —
случайно не убитые,
по недосмотру живые!
Мир вам!
Пусть смерть, слепая, ищет вас —
а не вы ее!
Кончился грохот на западе и востоке.
Всем — мир!
Всем! А боль,
нестерпимая —
пусть она схлынет!
Отойдет!
Или хоть замрет, затаится...
Белые хлопья
падают, падают.
Забвенье.
Тишина. Снег.
1946

АТАКА
С портфелем толстый тюлень,
некрепко сжимая пухлый кулак,
говорит: Надо помнить, как было.
Из песни слова не выкинешь.
Мы непременно
в атаку шли
с громким возгласом: «За него!
За победу!»
Об этом незачем теперь забывать.
Да, надо вспомнить.
Ждем! Был спирт! Много.
Все дымится в глазах. Желто дымится.
Вправо щель,
влево щель.
Может быть, до конца земли.
Застонало, замирая, слева...
снова застонало...
Из земли
стали выбегать —
люди — скорчившись — вперед; падают,
бегут!
Стон: будто в воздухе
щель, щель. Тонкая. Сквозь всё.
Огромное поле, под снегом, в буграх:
вдалеке, в том конце, из гула-огня
построена смерть.
— «А ну, ребятки, — сказал старшина, —
слева, глядите, уже пошли!
И мы, давай, ребятки, давай!»
Выскочить
на скользкий глинистый край
(все дымится в глазах) —
видеть: падают, бегут...
Бежать! Стреляя! Тянуть:
а-а-а-а-а-а!
Не наполнить неба!
Не наполнить (нет!)
бескрайней земли —
криком!
Но тянуть, захлебываясь, тянуть:
а-а-а-а-а-а!
Бежать!
Сквозь падающих!
Через лежащих!
Слева —
бежит, бежит,
упал — покатился...
Справа —
рукой за глаза,
кровь
сквозь пальцы. Бежит — пал...
Все
желтое!
Снег желт!
Небо желто!
Все бежит, со мной, на меня —
желто!
Бежит!
Крик: а-а!
Ворваться!
Работать!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А в полковых швальнях, редакциях, прачечных,
в трибуналах, в обозной финчасти
(мне говорили)
и правда — частенько провозглашали, подняв:
— За него!
Пили из стаканов. Выпьют — закусят. И снова кричат:
— За него!
И снова кричат: — За него! За него! За него!
Из песни слова не выкинешь. Было.
Мне говорили.
1958
ЗОВ
Быстро меркнет небо.
В котловину
падают
тени
тесно одна к другой.
По дороге —
треск военных повозок.
Гонят коней
без криков,
молча:
приказ — отступать.
На склонах гор
уже стучат
немецкие автоматы.
Вдруг — затор.
Лошади сбились, в пене, храпят,
постромки запутались, рвутся...
Застрелить коней,
колеса, обломки — в канаву!
Снова поток быстрых повозок:
приказ —
отступать.
На склонах гор стучат, стучат автоматы:
пустынно-зловеще,
в огромном
вечернем небе.
Треск быстрых повозок...
Из канавы, сбоку —
издали слышно —
голос:
— Не оставьте, братцы...
В живот
ранен.
Лежит,
смотрит в небо:
— Не оставьте, братцы...
Несется треск повозок, насторожённые лица,
взгляды уперты в одно:
в следующий,
может быть, —
смертный шаг.
— Не оставьте, братцы...
Стремительно падает тьма.
По единственному спасенью, по разбитой дороге
летят военные быстрые таратайки.
Тягачи
увозят пушки.
Идут в одиночку солдаты,
покрытые пылью, как мертвецы.
— Не оставьте,
братцы...
...Тридцать лет
голос
зовет:
— Не оставьте,
братцы...
Под этот зов
пролетает, уходит
жизнь.
1973
_______
Борис Слуцкий (1919—1986)
ГОСПИТАЛЬ
Еще скребут по сердцу «мессера»,
Еще
вот здесь
безумствуют стрелки,
Еще в ушах работает «ура»,
Русское «ура-рарара-рарара!» —
На двадцать
слогов
строки.
Здесь
ставший клубом
бывший сельский храм —
Лежим
под диаграммами труда,
Но прелым богом пахнет по углам —
Попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы лядащего сюда!
Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
Здесь
ад
ревмя
ревет!
На глиняном истоптанном полу
Лежит диавол,
раненный в живот.
Под фресками в нетопленом углу
Лежит подбитый унтер на полу.
Напротив,
на приземистом топча́не,
Кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!
(Шепотом — как мертвые кричат.)
Он требует, как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский
Не помирал меж нас!
Он гладит, гладит, гладит ордена,
Оглаживает,
гладит гимнастерку
И плачет,
плачет,
плачет
горько,
Что эта просьба не соблюдена.
А в двух шагах, в нетопленом углу,
Лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
Уносит прочь, в какой-то дальний зал,
Чтоб он
своею смертью черной
Комбата светлой смерти
не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют
воины:
— Так вот оно,
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
Попробуй
перевоевать
по-своему!
<1940-е>
БУХАРЕСТ
Капитан уехал за женой
В тихий городок освобожденный,
В маленький, запущенный, ржаной,
В деревянный, а теперь сожженный.
На прощанье допоздна сидели,
Карточки глядели.
Пели. Рассказывали сны.
Раньше месяца на три недели
Капитан вернулся — без жены.
Пироги, что повара пекли —
Выбросить велит он поскорее,
И меняет мятые рубли
На хрустящие, как сахар, леи.
Белый снег валит над Бухарестом.
Проститутки мерзнут по подъездам.
Черноватых девушек расспрашивая,
Ищет он, шатаясь день-деньской,
Русую или хотя бы крашеную,
Но глаза чтоб серые, с тоской.
Русая или, скорее, крашеная
Понимает: служба будет страшная.
Денег много и дают — вперед.
Вздрагивая, девушка берет.
На спине гостиничной кровати
Голый, словно банщик, купидон.
— Раздевайтесь. Глаз не закрывайте, —
Говорит понуро капитан.
— Так ложитесь. Руки — так сложите.
Голову на руки положите.
— Русский понимаешь? — Мало очень.
— Очень мало — вот как говорят.
Черные испуганные очи
Из-под черной челки не глядят.
— Мы сейчас обсудим все толково.
Если не поймете — не беда.
Ваше дело — не забыть два слова
Слово «нет» и слово «никогда».
Что я ни спрошу у вас, в ответ
Говорите: «никогда» и «нет».
Белый снег всю ночь валом валит,
Только на рассвете затихает.
Слышно, как газеты выкликает
Под окном горластый инвалид.
Слишком любопытный половой,
Приникая к щелке головой,
Снова,
Снова,
Снова
слышит ворох
Всяких звуков, шарканье и шорох,
Возгласы, названия газет
И слова, не разберет которых —
Слово «никогда» и слово «нет».
1950-е
ГОВОРИТ ФОМА
Сегодня я ничему не верю:
Глазам — не верю.
Ушам — не верю.
Пощупаю — тогда, пожалуй, поверю,
Если на ощупь — все без обмана.
Мне вспоминаются хмурые немцы,
Печальные пленные 45-го года,
Стоявшие — руки по швам — на допросе.
Я спрашиваю — они отвечают.
— Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю.
— Вы верите Герингу? — Нет, не верю.
— Вы верите Геббельсу? — О, пропаганда!
— А мне вы верите? — Минута молчанья.
— Господин комиссар, я вам не верю.
Всё пропаганда. Весь мир — пропаганда.
Если бы я превратился в ребенка,
Снова учился в начальной школе,
И мне бы сказали такое:
Волга впадает в Каспийское море!
Я бы, конечно, поверил. Но прежде
Нашел бы эту самую Волгу,
Спустился бы вниз по течению к морю,
Умылся его водой мутноватой
И только тогда бы, пожалуй, поверил.
Лошади едят овес и сено!
Ложь! Зимой 33-го года
Я жил на тощей, как жердь, Украине.
Лошади ели сначала солому,
Потом — худые соломенные крыши,
Потом их гнали в Харьков на свалку.
Я лично видел своими глазами
Суровых, серьезных, почти что важных
Гнедых, караковых и буланых,
Молча, неспешно бродивших по свалке.
Они ходили, потом стояли,
А после падали и долго лежали,
Умирали лошади не сразу...
Лошади едят овес и сено!
Нет! Неверно! Ложь, пропаганда.
Всё — пропаганда. Весь мир — пропаганда.
1950-е
ВЕДРО МЕРТВЕЦКОЙ ВОДКИ
...Паек и водка.
Водки полагалось
сто грамм на человека.
Итак, паек и водка
выписывались старшине
на списочный состав,
на всех, кто жил и потому нуждался
в пайке и водке
для жизни и для боя.
Всем хотелось съесть
положенный паек
и выпить
положенную водку
до боя,
хотя старши́ны
распространяли слух,
что при раненьи
в живот
умрет скорее тот, кто съел паек.
Все то, что причиталось мертвецу
и не было востребовано им
при жизни, —
шло старшинам.
Поэтому ночами, после боя,
старшины пили.
По должности, по званию и по
веселому характеру
я мог бы
рассчитывать на приглашение
в землянку, где происходили
старшинские пиры.
Но после боя
очень страшно
слышать то, что говорят старшины,
считая мертвецов и умножая
их цифру на сто,
потому что водки
шло по сто грамм на человека.
...До сих пор
яснее голова
на то ведро
мертвецкой водки,
которую я не распил
в старшинском
блиндажике
зимой сорок второго года.
* * *
Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.
Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.
Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.
Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.
До речки не дойдя Днепра,
он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане жара была в то лето.
ЧЕТВЕРТЫЙ АНЕКДОТ
За три факта, за три анекдота
вынут пулеметчика из дота,
вытащат, рассудят и засудят.
Это было, это есть и будет.
За три анекдота, за три факта
с примененьем разума и такта,
с примененьем чувства и закона
уберут его из батальона.
За три анекдота, факта за три
никогда ему не видеть завтра.
Он теперь не сеет и не пашет,
анекдот четвертый не расскажет.
Я когда-то думал все уладить,
целый мир облагородить,
трибуналы навсегда отвадить
за три факта человека гробить.
Я теперь мечтаю, как о пире
духа,
чтобы меньше убивали.
Чтобы не за три, а за четыре
анекдота
со свету сживали.
_______

Александр Межиров (1923—2009)
* * *
Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
Мы недаром присягу давали.
За собою мосты подрывали, —
Из окопов никто не уйдет.
Недолет. Перелет. Недолет.
Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она — по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Нас великая Родина любит...
По своим артиллерия лупит —
Лес не рубят, а щепки летят.
1956
_______
Евгений Винокуров (1925—1993)
НЕЗАБУДКИ
В шинельке драной,
Без обуток
Я помню в поле мертвеца.
Толпа кровавых незабудок
Стояла около лица.
Мертвец лежал недвижно,
Глядя,
Как медлил коршун вдалеке...
И было выколото
«Надя»
На обескровленной руке.
1957
_______
Игорь Холин (1920—1999)
Из цикла «РЕКА ВОЙНЫ»
* * *
Окоп как змея
Ползет
По склону холма
В нем
Копошатся
Обезумевшие люди
В серых шинелях
Микробы
Под микроскопом
Люди без лиц
* * *
Моя нога
Не хотела
Быть со мной
Отскочила
В сторону
У многих
Отскочили головы
И покатились
Под откос
Как головки
Голландского
Сыра
* * *
Командир батареи
Безусый парнишка
Рассматривал в бинокль
Поле
Утыканное
Ромашками
И васильками
Затем
Вдохнув
Полной грудью
Окопную вонь
Крикнул
Огонь
И всё полетело
Вверх тормашками
* * *
С похмелья
Воевать неохота
Ору
Вперед рота
У самого рвота
НАСТАВЛЕНИЯ СТАРШИНЫ
1
Новобранец
Запомни урок
Я
Старшина
Твой бог
2
Выгляди орлом
Иначе
Смешаю
С говном
3
О материной сиське
Не тоскуй
Стой
На посту
Как хуй
* * *
Человека
Раздавил танк
Кровь на броне
Как пятно
От
Томатного сока
* * *
Ни звезды
Ни креста
Ни черта
Волосы
Вместо травы
Торчат
Из земли
На братской могиле
_______
Александр Люкин (1919—1968)
* * *
Когда в атаку поднимали,
Как черт меня
К земле прижал.
На мне все волосы стояли,
А сам я
Всё еще лежал.
НА ПРИВАЛЕ
В. Г. Балабаеву
Холодно.
Взвод на привал
Среди поля лег.
А я
Через полчаса
Перевертываю солдат
На другой бок.
Я чу́ток,
Я бодрствую,
Я часовой.
Замерзнут ребята,
А мне
Отвечать головой.
Так сколько ночей,
Сколько
Длинных-предлинных недель.
А метель,
метель,
метель,
Колючая,
гудит,
звенит,
завывает.
Такое
Только на фронте
Отдыхом называют.

* * *
Два солдата сидят,
Разговор ведут,
Как домой они
К женам спать придут.
Говорит один:
— Ах, постель бела,
А жена меня
Пять годов ждала.
Говорит другой:
— Ляжем в сено спать,
Чтоб не слушали
Нас отец и мать.
Загремел снаряд, —
И в крови, в пыли
Два солдата спать
Вечным сном легли.
_______
Юрий Белаш (1920—1988)
ОН
Он на спине лежал, раскинув руки,
в примятой ржи, у самого села, —
и струйка крови, черная как уголь,
сквозь губы приоткрытые текла.
И солнце, словно рана пулевая,
облило свежей кровью облака...
Как первую любовь,
не забываю
и первого
убитого
врага.
1967
ФРОНТОВОЙ ЭТЮД
Мы хотели его отнести в медсанвзвод.
Но сержант постоял, поскрипел сапогами:
— Все равно он, ребята, дорогой помрет.
Вы не мучьте его и не мучайтесь сами... —
И ушел на капэ — узнавать про обед.
Умиравший хрипел. И белки его глаз
были налиты мутной, густеющей кровью.
Он не видел уже ни сержанта, ни нас.
Смерть склонилась сестрой у его изголовья.
Мы сидели — и молча курили махорку.
А потом мы расширили старый окоп,
разбросали по дну его хвороста связку,
и зарыли бойца глубоко-глубоко
и на холм положили пробитую каску.
Возвратился сержант — с котелками и хлебом.
1968
ПЕХОТА
Пехоту обучали воевать.
Пехоту обучали убивать.
Огнем. Из трехлинейки. На бегу.
Все пять патронов — по знакомой цели:
По лютому заклятому врагу
В серо-зеленой, под ремень, шинели.
Гранатою. Немного задержав
К броску уже готовую гранату, —
Чтоб, близко у ноги врага упав,
Сработал медно-желтый детонатор.
Штыком. Одним движением руки.
Не глубоко: на полштыка, не дале,
А то бывали случаи — штыки
В костях, как в древесине, застревали.
Прикладом. Размахнувшись от плеча.
Затыльником — в лицо или ключицу.
И бей наверняка, не горячась:
Промажешь — за тебя не поручиться.
Саперною лопаткою. Под каску.
Не в каску, а пониже — по виску,
Чтоб кожаная лопнула завязка
и каска покатилась по песку.
Армейскими ботинками. В колено.
А скрючится от боли — по лицу, —
В крови чтобы, горячей и соленой,
Навеки захлебнуться подлецу.
И наконец — лишь голыми руками.
Подсечкою на землю положи
И, скрежеща от ярости зубами,
Вот этими руками — задуши!
С врагом необходимо воевать.
Врага необходимо убивать.
1968
ВОЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
В глубоком тылу врага разведчики пленных не берут — только «языков».
Из фронтовых записок
Как это было?
Так оно и было —
как это всё бывает на войне.
По одному в амбар их заводили,
по одному их ставили к стене.
Молились.
Вырывались.
Пальцы грызли...
Но автоматный вскидывали ствол —
и брызгали отстрелянные гильзы
на глиняный замусоренный пол.
Мы не могли оставить всех в живых:
их было двадцать семь —
на шестерых.
1968

ЛЕЙТЕНАНТ
Мы — драпали. А сзади лейтенант
бежал и плакал от бессилия и гнева.
И оловянным пугачом наган
семь раз отхлопал в сумрачное небо.
А после, как сгустилась темнота
и взвод оплошность смелостью исправил,
спросили мы: — Товарищ лейтенант,
а почему по нас вы не стреляли?..
Он помолчал, ссутулившись устало.
И, словно память трудную листая,
ответил нам совсем не по уставу:
— Простите, но в своих я не стреляю...
Его убило пару дней спустя.
1968
ТРУСОСТЬ
Немцы встали в атаку...
Он не выдержал — и побежал.
— Стой, зараза! — сержант закричал,
угрожающе клацнув затвором,
и винтовку к плечу приподнял.
— Стой, кому говорю?! —
Без разбора
трус,
охваченный страхом,
скакал,
и оборванный хлястик шинели
словно заячий хвост трепетал.
— Ах, дурак! Ах, дурак, в самом деле... —
помкомвзвода чуть слышно сказал
и, привычно поставив прицел,
взял на мушку мелькавшую цель.
Хлопнул выстрел — бежавший упал.
Немцы были уже в ста шагах...
1969
ПРОТИВОТАНКОВАЯ ГРАНАТА
Стоял — ссутулившись горбато.
Молчал — к груди прижав гранату...
И навсегда избавился от плена:
исчез в дыму по самые колена.
И в сторону упали две ноги —
как два полена.
1979
У ЛИЗКИ ТИМОФЕЕВОЙ
четыре мальчишки:
Серега, Ванька, Рудольф и Герман.
Родились они от разных солдат,
ночевавших в Лизкиной избе во время войны.
Старшие колотят младших: — Фашисты проклятые! —
Лизка колотит старших: — Не обижайте братиков! —
Но когда соседские пацаны начинают дразниться:
— Ваша мать потаскуха! —
и старшие и младшие Тимофеевы, сжав кулачки,
одним строем идут на обидчиков:
— Наша мамка хорошая!
Лиза утирает подолом разбитые носы — и плачет:
— Ну чем я виноватая!..
1983
ПЕРЕКУР
Рукопашная схватка внезапно утихла:
запалились и мы, запалились и немцы, —
и стоим, очумелые, друг против друга,
еле-еле держась на ногах...
И тогда кто-то хрипло сказал: «Перекур!»
Немцы поняли и закивали : «Я-а, паузе...»
И уселись — и мы, и они — на траве,
метрах, что ли, в пяти друг от друга,
положили винтовки у ног
и полезли в карманы за куревом...
Да, чего не придумает только война!
Расскажи — не поверят. А было ж!..
И когда докурили — молчком, не спеша,
не спуская друг с друга настороженных глаз,
для кого-то последние в жизни —
мы цигарки, они сигареты свои, —
тот же голос, прокашлявшись, выдавил:
«Перекур окончен!»
1986

* * *
Ночью в атаке «ура» не кричат.
А почему — не понятно.
* * *
Они штыки вогнали в грудь друг
другу с ходу.
* * *
Поля —
как солдатские головы,
подстриженные под машинку.
_______
Александр Твардовский (1910—1971)
* * *
Старуха готовила немцам закуски
И кланялась низко, мол, кушайте, гости.
А вслух говорила негромко по-русски
Другие слова, задыхаясь от злости.
Она предрекала им сроки расплаты
За все их вины и за все свои слезы.
— Ужо, погодите, побьем вас, проклятых,
Дойдем до Берлина и всех вас — в колхозы.
1968
* * *
Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречает в шестьдесят восьмом.
1968
_______
Константин Ваншенкин (1925—2012)
ПЕРЕД ВОЙНОЙ
Была зима перед весною,
Как и в другие времена.
К дождю июньскому и к зною
Была весна устремлена.
И только резкостью иною
Подробность помнится одна:
Перед войной была война.
_______
Семён Липкин (1911—2003)
ВЗГЛЯД
Я спросил у поэта-кавказца,
Старой дружбою с ним умилен,
Отомстит ли он, если удастся,
За угон малосильных племен?
Но, дыша перегаром эпохи,
Всех виня, никого не виня,
Голубые глаза выпивохи
Он уставил тогда на меня.
Этот взгляд был такой безучастный,
И разумный такой, и дурной,
Что я понял, как все мы несчастны,
Но не понял, что будет со мной.
1972
_______
Вадим Сидур (1924—1986)
* * *
Я — цветок юный советский
Убит был пулей немецкой
ВОТ И КОНЕЦ
Успел подумать
Не вспомнил
Ни маму
Ни папу
Просто сполз
В жидкую грязь
На дно окопа
И тихо
Умер
1983
_______
Юрий Левитанский (1922—1996)
ВОСПОМИНАНЬЕ О КУСКЕ САЛА
Правый берег реки
возвышался над нашим,
над левым,
и мы сейчас были как на ладони,
на нашем отлогом,
песчаном,
у этой реки,
где редкая птица
долетает до середины,
и нас засекли у самой воды,
и снаряды стали ложиться
ближе,
и мы побежали —
мы добежали
до первой воронки
и нырнули в нее,
и снаряд разорвался рядом,
немного не долетев,
а потом позади
и справа,
и песок нас слегка присыпал,
и надо было бежать,
и тогда
один из нас вытащил сало
из кармана шинели,
и мы стали есть его
жадно и торопливо,
хотя надо было бежать.
Сало было розовым и соленым,
веснушчатым и конопатым
от песка и махорки,
мы ели его жадно и торопливо,
почти проглотили,
и тогда мы выскочили
и побежали,
и пробежали совсем немного,
когда снаряд
наконец
угодил
в ту спасительную воронку,
где мы перед тем сидели.
Сало было розовое,
как младенец,
розовое и веснушчатое,
как наш старшина после бани,
этакий рыжий верзила
с нахальной ухмылкой,
некто хохочущий,
некто ликующе розовощекий,
этакий улыбающийся
господин в цилиндре,
некий факир
по имени Сало,
господин Сало,
ах, господин Сало...
_______

Булат Окуджава (1924—1997)
ДЕРЗОСТЬ, ИЛИ РАЗГОВОР ПЕРЕД БОЕМ
— Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам ваше ремесло?
— Господин генерал, вспомнились амуры —
не скажу, чтобы мне с ними не везло.
— Господин лейтенант, нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы всё про баб!
— Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б.
— Господин лейтенант, не к добру всё это!
Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать...
— Господин генерал, будет нам победа,
да придется ли мне с вами пировать?
— На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество...
— Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.
— Черт возьми, лейтенант, да что это с вами?
Где же воинский долг, ненависть к врагу?!..
— Господин генерал, посудите сами:
я и рад бы приврать, да вот не могу...
— Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счеты с тобой трибунал сведет...
— Видно, так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.
1984
_______
* * *
Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал.
А может, это школьник меня нарисовал:
Я ручками размахиваю, я ножками сучу,
И уцелеть рассчитываю, и победить хочу.
Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.
А может, просто вечером в кино я побывал?
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,
И руки мои чистые, и праведна душа.
Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.
А может быть, подстреленный, давно живу в раю,
И кущи там, и рощи там, и кудри по плечам...
А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.
Евгений Агранович (1918—2010)
* * *
Слышала, как просит пить в санбате
Раненный осколками в живот?
Выпьет кружку — жизнью он заплатит,
А не выпьет — все равно умрет.
Видела, как ходит в бой штрафная?
В пламя лезет проклятая рать,
Чтобы жизнь вернуть. Прекрасно зная,
Что за это надо жизнь отдать...
Что, неважно шли у нас дела?
Но свобода выбора была.
1943—1985
_______
Давид Самойлов (1920—1990)
ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА
Бой вспоминается потом.
В тылу. На госпитальной койке.
Ночами часто будит стон
Тяжелораненого Кольки.
Прокручивается кино
На простыне, как на экране.
Обстрел. Команда заодно
С обрывком энергичной брани.
Все возвращается — деталь,
Неподходящая экрану,
Как комсомольский секретарь
Кишки запихивает в рану...
Азарт. Бросок. «Стреляй же, бля!»
«Ура!» звучащее не густо.
Нет, это не годится для
Документального искусства.
Но утренний приход сестриц
Пригоден для кинокартины,
Особенно насчет ресниц
Сестрицы Вали-Валентины.
Ее не тронь! Словцом хотя б!
И не допустят матерщины
Не больно верящие в баб
Гвардейцы Вали-Валентины.
О ней возможен разговор
Возвышенный, почти стихами.
Тяжелораненый сапер
О ней во сне скрипит зубами.
А этот госпитальный быт!
О чем еще мечтать пехоте!
Лежишь на чистой койке. Сыт.
И вроде с Родиной в расчете.
Да, было. А теперь печет:
Иные раны, карантины.
И с Родиной иной расчет.
И нету Вали-Валентины.
9 мая 1986
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса
Мозаика
- 20 октября 2024 — Дискуссия «Как преподавать литературу в школе сегодня?» и презентация книги Антона Ткаченко «Уроки литературы и театр: возможности цифровой эпохи» (Санкт-Петербург)
- Тревел-блог Афанасия Никитина "Хождение за три моря"
- Почему, дружок? Да потому…
- Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев»
- Всерос по литературе – 2019. Творческий тур
- Большая книга – 2019: «Венедикт Ерофеев. Посторонний»