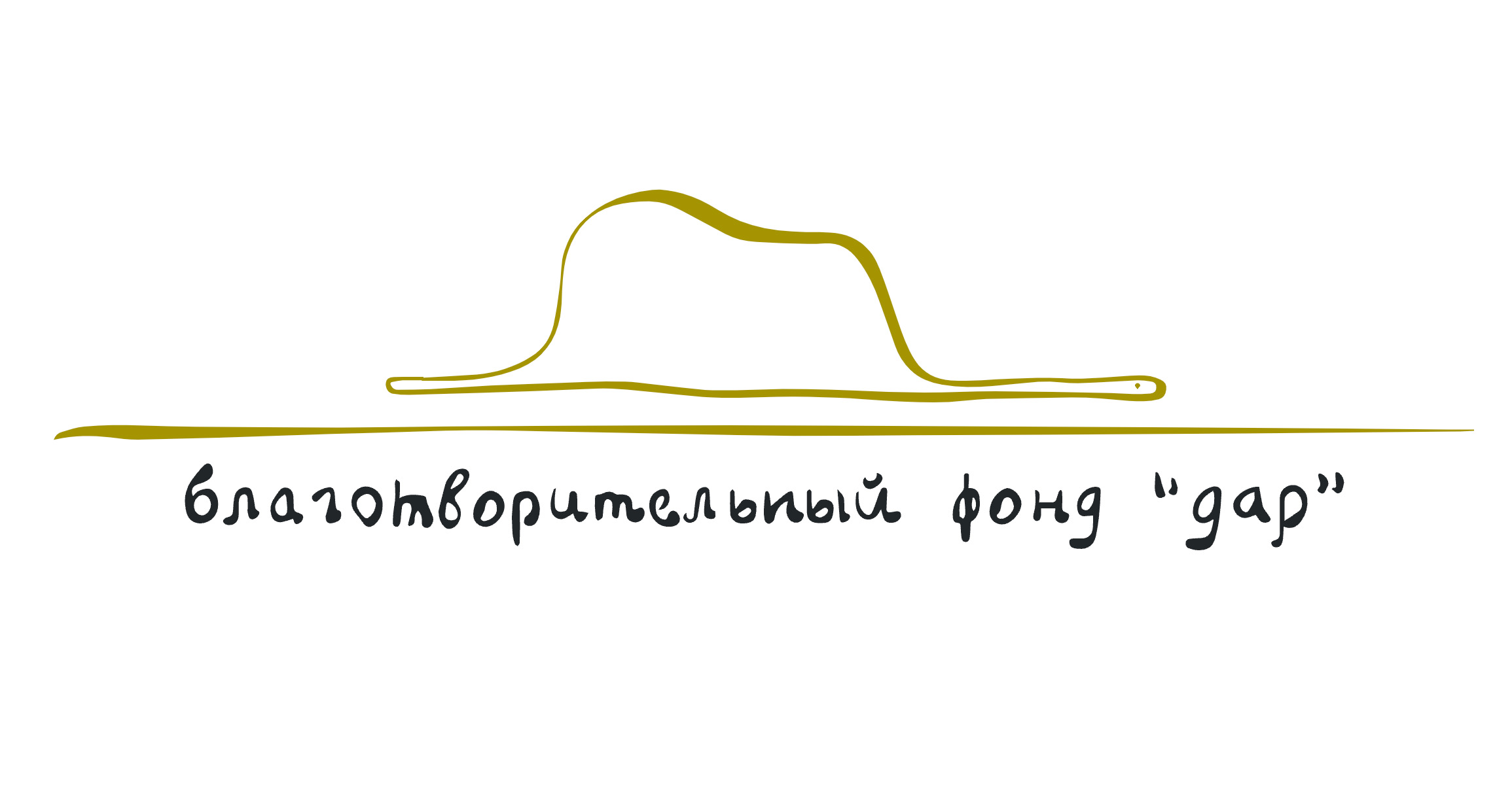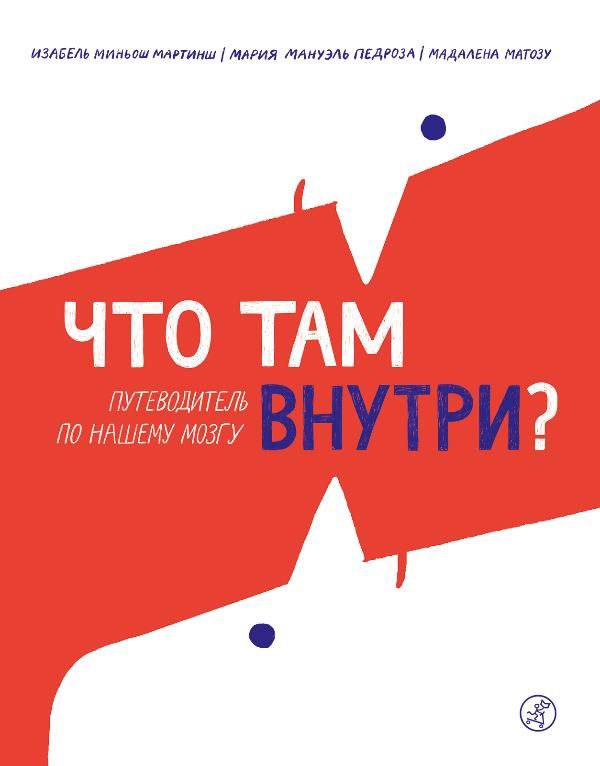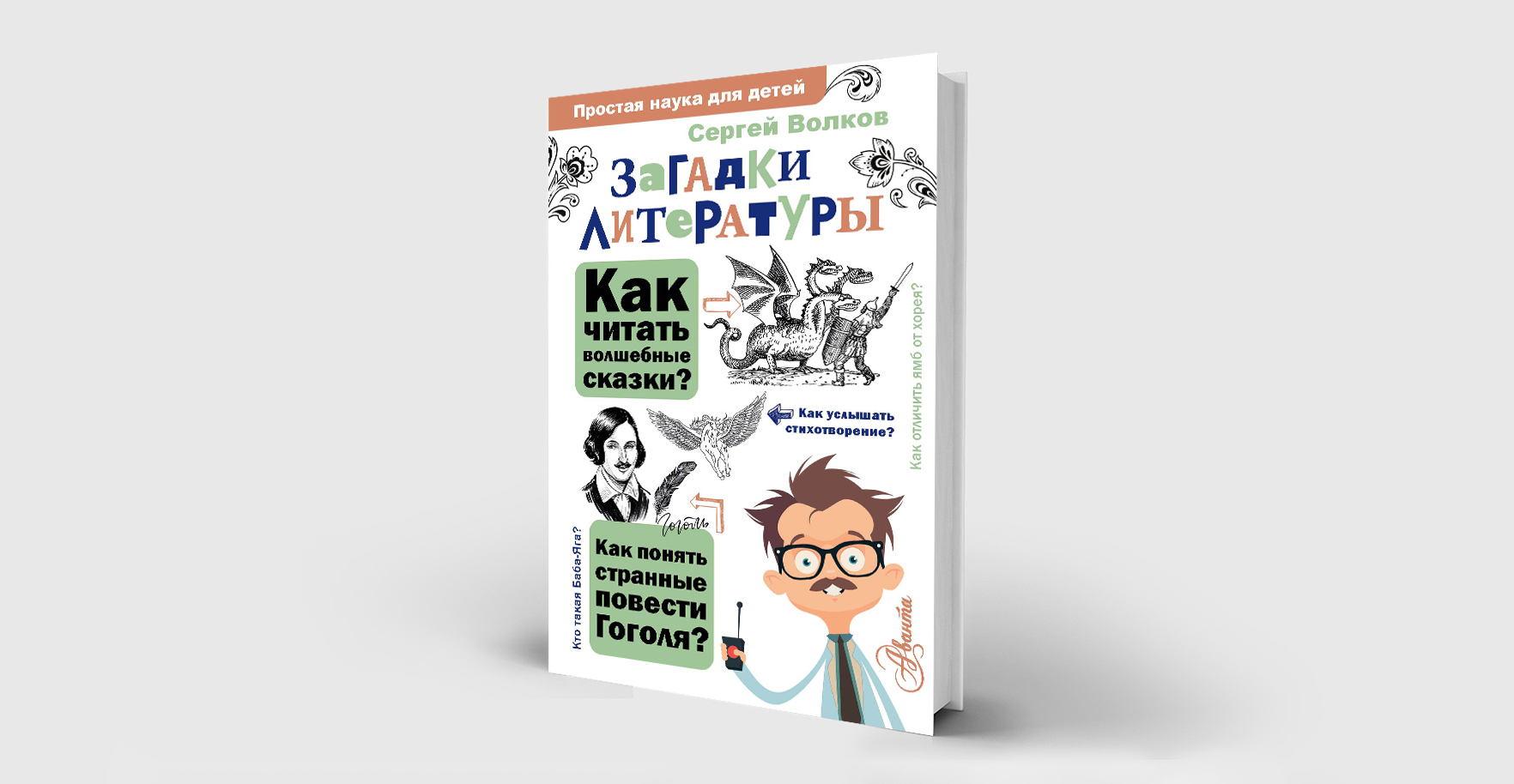
«Что такое «урок добрым молодцам»? Чем стихи отличаются от прозы?» Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с литературой, ваш ребенок найдет в книге «Загадки литературы».
Автор Сергей Волков — учитель словесности с 25-летним опытом преподавания, в игровой форме научит понимать даже серьезные произведения, быстро заучивать и «слышать» стихотворения, разбираться в теории литературы. Для тренировки предлагается выполнить связанные с изученным материалом задания, а раздел «Погуглим!» поможет разобраться в самых сложных терминах. Подготовку по литературе «на отлично» — гарантируем!
Специально для читателей Гильдии словесников – ознакомительный фрагмент книги, глава про Гоголя.
Эти странные повести
Если читать гоголевскую «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» сразу после «Вечеров на хуторе близ Диканьки», то бросится в глаза важное отличие мира этой повести от мира, привычного нам по циклу «Вечеров…». Там наравне с людьми действовала нечистая сила, все происходящее напоминало сюжеты фольклорных рассказов об общении человека с потусторонним миром (фольклористы называют их быличками, бывальщинами). В полном соответствии с традиционным мифологическим сознанием мир в «Вечерах…» поделен на две сферы: “свое” и “чужое”, “посюстороннее” и “потустороннее” – граница между которыми подвижна и зыбка, часто размывается. О таких “нарушениях границы” и событиях, происходящих во время смешения двух сфер мира и повествуют многие рассказы «Вечеров».
Иную картину видим в «Повести о том, как поссорились...». Ни о каком вмешательстве сверхъестественной силы в обычную человеческую жизнь речи не идет, потусторонний план вовсе отсутствует. Однако по мере чтения повести все меньше и меньше эту самую человеческую жизнь хочется называть «обычной». И все чаще и чаще возникают в сознании слова «странный», «алогичный», «абсурдный».
Погуглим!
Вы уже, конечно, догадались, что слова абсурд, абсурдный, алогизм, алогичный – иностранные по происхождению: ведь начинаются они с буквы А. Только это начальное А выполняет в словах разную работу: в слове алогичный – это приставка, в словах абсурд, абсурдный входит в состав корня.
А-приставка похожа по значению на нашу НЕ: это тоже отрицание, только более категоричное. Алогичный – это не просто нелогичный, но скорее антилогичный, нарушающий все принципы логики. Алогизмы (то есть намеренные нарушения логических связей в речи) в художественных произведениях употребляются для создания определенного эффекта, особой, чуть «свихнутой» атмосферы повествования.
Абсурд – слово более распространенное. Оно означает «нелепость, бессмыслица».
Итак, увидеть странно-фантастическое – в обыденном, изобразить обычное в нелепо-абсурдном свете – вот что теперь интересует писателя. Алогичность, представляющая новый этап в развитии гоголевской фантастики (напомним, что начинал он с изображения фантастического, а пришел к фантастическому изображению), пронизывает всю повесть и прослеживается на самых разных уровнях.
Книжная полка
Тем, кто интересуется творчеством Гоголя и хочет разобраться в тайнах его фантастики, рекомендуем познакомиться с работами литературоведа Юрия Манна. И прежде всего с его «Поэтикой Гоголя», многие мысли которой послужили основой для этой главки. А книга «В поисках живой души» позволит вам открыть для себя поэму «Мертвые души», узнать полную драматических поворотов историю ее создания, которая подчас читается как настоящий детектив.
В чем же алогичность гоголевской повести? Прежде всего сам сюжет построен на череде нелепых происшествий: неразлучные друзья ссорятся из-за ничтожного пустяка; свинья, принадлежащая Ивану Ивановичу, непостижимым образом съедает жалобу его противника; Иван Никифорович пишет жалобу на свинью, и городничий требует выдачи ее правосудию, и т.п. Вся эта цепь нелепостей завершается в финале неожиданно грустными размышлениями автора о пустоте и бессмысленности человеческой жизни вообще.
Так же странны сюжеты и других произведений Гоголя. Возьмем, например, повесть «Нос». Майор Ковалев, проснувшись поутру, вдруг обнаруживает, что его нос непостижимым образом исчез. Начинаются лихорадочные поиски, в ходе которых Ковалев встречается со своим носом на улице – тот расхаживает по городу в мундире чиновника! Одновременно нос оказывается запеченным в хлеб, которым решил позавтракать цирюльник Иван Яковлевич. При попытке выбросить в реку более чем странную находку, он задерживается полицейским.
Как же нос может быть одновременно и предметом, и человеком? Как может произойти вот такая встреча с ним (ее описывает полицейский): «Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу… И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тотчас же увидел, что это был нос». Что же это за такие очки странные, что наденешь – нос, снимешь – человек? И как можно при этом принести с собой в бумажке того, кто только что чуть не уехал в Ригу по поддельному паспорту?
Мы, естественно, адресуем эти вопросы автору и с нетерпением ждем финала повести, в котором должны объясниться все эти странности. Но в финале автор сам разводит руками, как бы удивляясь нелепости сюжета, и в буквальном смысле оставляет нас с носом, устраняясь от комментариев: «Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного… Нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; а во вторых … но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…»
Абсурд, который кроется в происшествиях, событиях привычного нам мира и может вдруг обнаружиться, выйти на поверхность, будет, вслед за Гоголем, привлекать и других писателей, особенно в XX веке. Порекомендуем вам прочитать лишь два произведения, сюжет которых явно перекликается с гоголевскими повестями. Это повесть Франца Кафки «Превращение» (человек, проснувшись, обнаруживает, что превратился в… огромного жука) и рассказ Сигизмунда Кржижановского «Сбежавшие пальцы» (название говорит само за себя).
Человек в мире Гоголя
Герои, вовлеченные в нелепые события гоголевских повестей, тоже несут на себе печать странности. Вот, например, портрет судьи: «У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее». Местоимение «его» в первом предложении относится к судье, «ему» во втором – уже к носу. Это душе носа угодно было нюхать табак, это носу губа служила табакеркой. На наших глазах начинает оживать и жить самостоятельной жизнью… часть тела человека: «Нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще больше досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его». И самое важное: судья относится к этой самостоятельной жизни носа как к чему-то само собой разумеющемуся, эта нелепость, граничащая с сумасшествием, его не волнует – если, правда, нос не переступает границы дозволенного. (Если нос начинает активно проявлять свою собственную волю, то мы вправе ожидать от него какой-нибудь выходки. Интересно, что у Гоголя есть повесть об … убежавшем носе. Она так и называется – «Нос». Когда будете читать ее, вспомните, что первый шаг к бегству самоуправный нос сделал в «Повести о том, как поссорились…»)
А вот как выглядит городничий: «Левая нога была у него прострелена в последней кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ею так далеко в сторону, что разрушал этим почти весь труд правой ноги. Чем быстрее действовал городничий своею пехотою, тем менее она подвигалась вперед». Человек на наших глазах как бы распадается на части; части эти начинают жить своей отдельной жизнью. Отсюда вырастает знаменитая гоголевская метонимичность.
Погуглим!
Вы, наверное, слышали такую строгую фразу: «Посторонним лицам вход запрещен!» Значит ли это, что рукам, ногам и прочим частям тела входить можно? Конечно, нет. Здесь слово «лицо» перенесено на всего человека, часть становится обозначением целого. То же самое видим и в примерах: «Васька? Это голова! Все задачки решает сразу», «У нее в семье пять ртов». Вот это и есть метонимия (точнее, один из ее видов).
Гоголь превращает переносное метонимическое значение в прямое: нос судьи, «пехота» городничего у него начинают жить своей жизнью, становятся самостоятельными существами, равными человеку. Если бы мы снимали по гоголевским повестям фильм, то нам пришлось бы чередовать общий и крупный планы съемки, чтобы эту жизнь сделать явственной для зрителя.
Странность героев Гоголя проявляется не только в их облике, но и в манере мыслить и рассуждать – в речи персонажей. Вот как, например, объясняет Иван Иванович, что он не гусак (согласитесь, что сама ситуация странная – ведь это понятно и без объяснений!): «в метрической книге, находящейся в церкви Трех Святителей, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. Гусак же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно». То есть получается, что если бы записи в церковной книги не было, то Ивана Ивановича можно было бы, пожалуй, принять за гусака...
Сами персонажи Гоголя как будто не чувствуют нарушений логики в своих речах и вообще не замечают странностей окружающего их мира. Вспомните, например, реакцию разных героев «Носа» на слова Ковалева о пропаже его носа. Они ведут себя так, будто бы пропало что-то совершенно обыденное и привычное.
Книжная полка
Говоря о гоголевских персонажах, нельзя не вспомнить статью филолога Сергея Бочарова «Вокруг "Носа"». В ней ставится проблема изображения человеческого лица в творчестве Гоголя. Исследователь пишет, что лицо – «это некоторый притягательный центр в его мире – и центр высокого напряжения». Интересно не только то, что Гоголь проявляет исключительное внимание к «внешнему, физическому лицу человека, к самой плоти лица, к телесному его составу и телесной его ощутимости», но и то, что часто лицо становится… объектом поругания, искажения, деформации. Нарушаются пропорции лица, искажаются соотношения между его частями; в произведениях Гоголя с человеческим лицом часто бесцеремонно обращаются. «Оскорбление человеческого лица – действием, словом или глубже всего – изображением – составляет одну из острых и труднообъяснимых странностей мира Гоголя» – пишет С. Бочаров. Ученый предпринимает попытку объяснить эту странность – и создает интересную гипотезу. С ней вы можете познакомиться самостоятельно, прочитав статью.
Что на что похоже?
Абсурдный мир гоголевских повестей, в котором творятся нелепые события и живут странные герои, наполнен странными, фантастическими вещами, предметами. Вот знаменитое описание бричек в повести «О том как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Каких только бричек и повозок там не было! Одна — зад широкий, а перед узенький, другая — зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком; другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое». Вы догадались, какой брички здесь нет? Правильно, нормальной, похожей на бричку. А все потому, что вещи в мире Гоголя не похожи сами на себя. Если, например, у Гоголя будут торговать пряниками, то они похожи на мыло, а лежащее рядом мыло, естественно, похоже на пряники.
Не особенно удивимся мы и одушевленности этих странных вещей, которые тоже способны жить своей жизнью: «Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский, с гербовыми пуговицами... выставилась шпага... из-за фалд выглянул жилет...”. Мы специально выделили курсивом глаголы, которые и дают нам это ощущение одушевленности.
Особым характером, причем весьма независимым, наделяется пуговица, оторвавшаяся от мундира городничего и усиленно разыскиваемая в течение двух лет всеми полицейскими города. Один школьник остроумно предложил так снять эту ситуацию в фильме: пуговица, лежащая где-нибудь в канаве, должна наблюдать за тем, как ее ищут, и ехидно улыбаться.
Мы часто будем сталкиваться у Гоголя с феноменом одушевления вещей. Вспомним, например, «поющие двери» в «Старосветских помещиках» или сумасшедшую дудку в шарманке у Ноздрева из «Мертвых душ»: «Шарманка играла не без приятности, но в середине ее, кажется, что-то случилось: ибо мазурка оканчивалась песнею: «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна».
Замечательны также часы помещицы Коробочки: «Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево». Мало того, что бой часов похож на что угодно, только не на бой часов – обратите внимание, что часы не просто пробили, а «часам пришла охота бить». То есть хочу бью, не хочу – не бью, часы обладают своим собственным характером и волей. Да и «понатужась всеми силами» можно сказать скорее про что-то живое, даже очеловеченное.
Герои же Гоголя совсем не замечают этих странных вещей – и в этом еще одна грань гоголевского абсурда. Может быть, потому, что и они сами не вполне люди – если «души мертвы», то от человека остается лишь одна телесность, материальная оболочка. Оживающие вещи сплошь и рядом соседствуют и путаются с людьми, которые как бы совершают шаг назад, к обездушенности, обезличенности вещей («мертвые души» – это ведь в первую очередь о таких людях сказано). Помещик Собакевич похож на медведя – и одновременно стул, кресла, стол удивительным образом напоминают его самого. Лицо его – как тыква. Животные, растения, люди, птицы, предметы – в мире Гоголя это «вещи» из одного ряда.
А в одном из окон города NN Чичиков увидел два самовара, затем, приглядевшись, различил у одного из самоваров бороду. И только тогда понял, что перед ним лицо мужика…
Сапоги всмятку, или Подводная лодка в степях Украины
Название главы говорит о том, что речь в ней пойдет о различных языковых несообразностях – а именно о тех, которые мы встретим у Гоголя. Собственно, и выражение «сапоги всмятку» мы взяли из «Мертвых душ»: когда в городе NN стало известно, что Чичиков скупает мертвых крестьян, то общество наперебой стало обсуждать эту новость и пытаться ее для себя истолковать. Нелепостей было нагорожено бог знает сколько. Гоголь пишет об этом так: «Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку! Это просто черт побери!». Действительно, разве бывают сапоги всмятку? Это два несоединимых понятия, в обычном языке существует логический запрет на это сочетание слов. Так же абсурдна и вторая фраза заголовка – только она принадлежит уже иному времени, веку двадцатому. Подводная лодка не может заплыть в степи Украины – это ясно как день.
Однако открывая произведения Гоголя, мы сталкиваемся с языком, в котором как будто бы и не существует этих логических запретов и правил. Обо всех странных событиях, людях и вещах рассказывается «странным» же языком. Многие фрагменты текста строятся на своеобразном нарушении «горизонта ожидания». Что это такое? Когда мы слышим чью-то речь, мы на некоторое время вперед как бы программируем, угадываем ее, мы имеем какие-то вытекающие из общей логики ожидания. Абсурдная речь, отвергающая логику, обманывает наши ожидания, предлагая вместо чего-то естественно вытекающего всякую несусветицу. На таком нарушении «горизонта ожидания» строится особый жанр фольклора – абстрактный анекдот.
Предположим, мы слышим фразу: «Летели два крокодила: один зеленый, другой – …» А вот тут задержимся и спросим сами себя: какого мы ждем продолжения? По логике вещей, дальше должен идти тоже какой-то цвет: синий, красный, белый. И хотя общая картина при таком продолжении выглядит фантастической (синий крокодил вряд ли бывает на свете, да и летать крокодилы вроде бы не умеют), все же языковая логика будет соблюдаться. Как же продолжается эта фраза в абстрактном анекдоте? А вот как: «Летели два крокодила: один зеленый, другой – в Африку». Это действует как шок – неожиданное замещение привычного логического звена в речи заставляет нас встрепенуться, задержаться на этом нелепом сочетании. А дальше уж кто как – кто-то рассердится и скажет: «Что за чушь!» – кто-то восхитится и будет смеяться.
Знаете ли вы такие анекдоты, смешные фразочки, полубезумные частушки? Вот некоторые из нашей копилки. Проверьте себя – как вы на них реагируете? (Фольклористы говорят, что смакуют эти анекдоты в основном люди творческих профессий). Итак, проверяем: «Стояли два носка, особенно левый»; «По стене ползет кирпич, волосатый, как утюг» (вариант: «По реке плывет топор, полосатый, как утюг»; «Если хочешь закурить, валенки на печке»; «Колобок повесился, Буратино утонул». Есть и развернутые тексты, с целым сюжетом, например про «мужика», который придя в магазин, требовал «морквы» и запихивал ее себе в уши, а когда продавщица из любопытства сказала, что «морквы» нет, попросил «свеклЫ» – и употребил ее таким же способом.
«А при чем тут Гоголь?» – спросите вы недоуменно. Дело в том, что примеры подобного рода, построенные на нарушении привычного «горизонта ожидания», встречаются у него постоянно. Вот «Повесть о том, как поссорились…»: «Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем…» – тут задержимся на секунду и подумаем, как бы мы продолжили эту фразу. А уж после этой «секунды» дочитаем гоголевский вариант: «с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке». Не правда ли, несколько неожиданно?
Или вот сравнение Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Начинается оно вполне логично: «Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину». Дальше – тоже все в порядке: «голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх». И вдруг в эту нормальную, логичную соотнесенность двух элементов вносится абсурд: «Иван Иванович очень сердится, если ему попадается в борщ муха: он тогда выходит из себя – и тарелку кинет, и хозяину достанется». Чего нам ожидать по логике дальше? Что Иван Никифорович наоборот очень любит мух в борще? Но Гоголь не моргнув глазом, выдает нам следующее: «Иван Никифорович очень любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар…». А дальше, будто бы не заметив собственного логического сбоя, возвращается к нормальному сравнению: «Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз». Но, усыпив нашу бдительность, снова подсовывает нам очередную нелепость: «Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением». Абсурд становится приметой стиля, языка Гоголя. Такой странный язык кидает особый отблеск на тот мир, который выстраивает Гоголь в своих произведениях, создает общую атмосферу нелепости.
Нарушение «горизонта ожидания» может проявляться и в смешивании разных логических рядов внутри одной последовательности однородных членов: «...двор, на котором пестрели индейские голуби... корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке...», «Агафия Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами».
Более сложным видом нарушения читательского ожидания становится частое несоответствие синтаксической конструкции и слов, которые в нее входят: «Чудный город Миргород!.. Роскошь!... Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть!.. Прекрасная лужа!». «Настала ночь... О, если бы я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи! Я бы изобразил, как спит весь Миргород; как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды...; как мимо... несется влюбленный пономарь и перелазит через плетень с рыцарскою бесстрашностию... Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке». Высокие по стилю синтаксические конструкции приходят в противоречие со словами – отсюда возникает и ощущение нелепости, и комический эффект.
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса
Мозаика
- Подготовка к итоговому сочинению 2018. Списки литературы
- «Злодеи, что они делают!»: отчаяние Всеволода Гаршина
- Книги на грани нервного срыва. Выпуск №40
- 13.05.2016 - «Русская культура в царствование императора Николая I»
- Фестиваль «Время читать!» в Екатеринбурге
- 12.10.2016 - Состоится очередное занятие Школы юного филолога НИУ ВШЭ