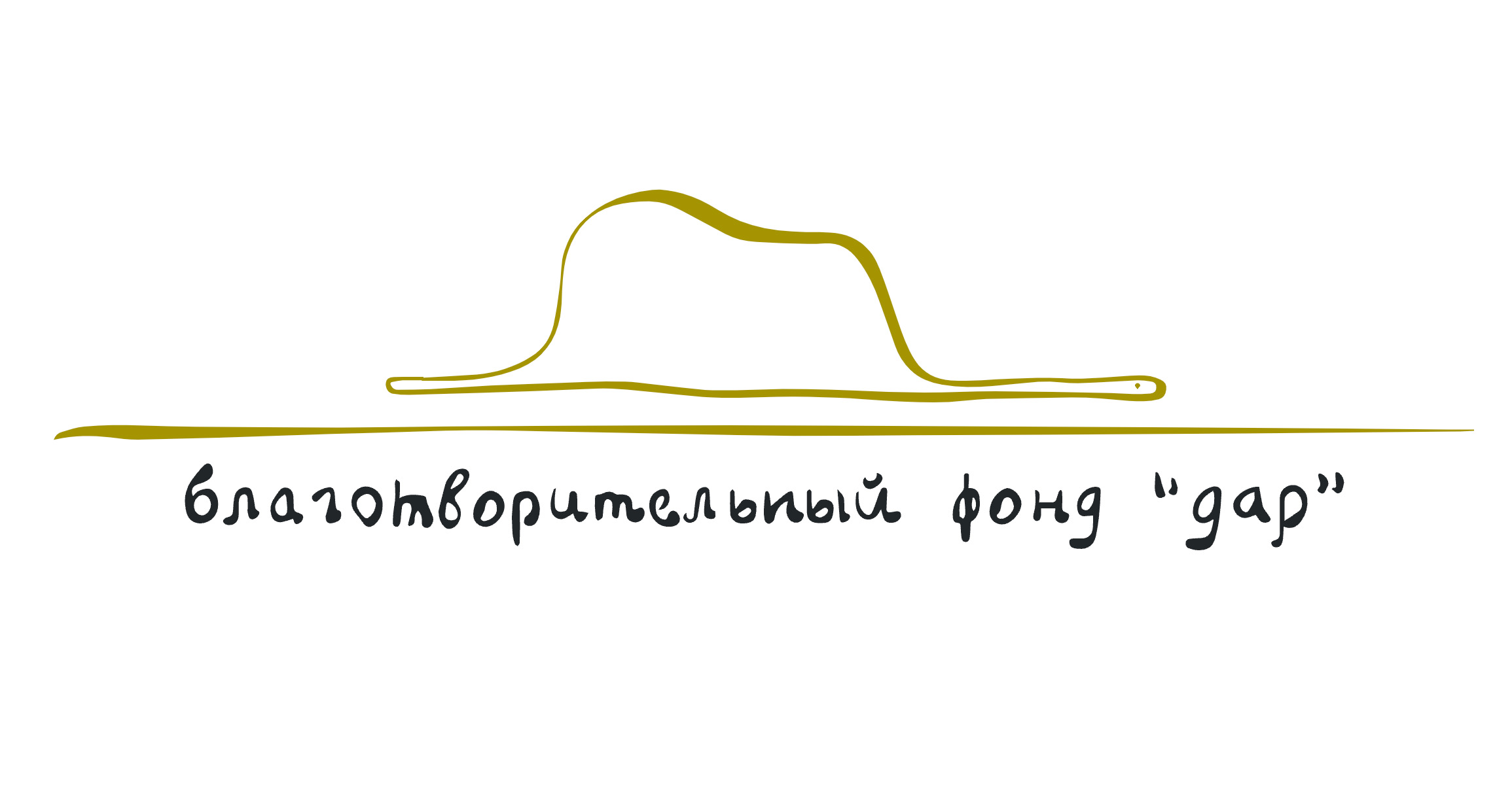На уроке литературы рассказывала о том, как Достоевский встретился с женами декабристов, вспомнили, что знали, что-то добавила, пошли дальше… И вот к уроку захотела найти и распечатать для них знаменитую цитату из письма Н.Д. Фонвизиной про Христа. Нашла. Прочитала…
И, отодвинув злобу дня, понесла распечатанное на оборотах одного листа письмо без купюр. Прочитала. Попросила каждого отметить что-то, что его задело: восхитило, удивило. Возмутило, вызвало вопрос, просто что-то непонятное или странное… Ребята зацеплялись за какое-то место, спрашивали. Кто-то им отвечал, так разбирались, думали. Я больше помалкивала.
Приведу письмо, где выделены эти зацепившие места. А потом уж маленький комментарий.
Н.Д. Фонвизиной
Конец января — 20-е числа февраля 1854. Омск
Наконец, добрейшая Н<аталия> Д<митриевна>, я пишу Вам, уже выйдя из прежнего места. Последний раз, как я писал Вам, я был болен и душою и телом. Тоска меня ела, и я думаю, что написал пребестолковое письмо. Эта долгая, тяжелая физически и нравственно, бесцветная жизнь сломила меня. Мне всегда грустно писать в подобные минуты письма; а навязывать в такое время свою тоску другим, хотя бы очень расположенным к нам, я думаю, малодушие. Это письмо я посылаю по оказии и рад-радехонек, что могу этот раз поговорить с Вами; тем более что я назначен в Семипалатинск в 7-й батальон, и потому уже не знаю, каким образом можно будет писать к Вам и получать от Вас письма. Вы еще давно писали мне о моем брате. Тогда я уже приготовил и письмо к Вам и к брату, но остерегся посылать, да, кажется, хорошо сделал. Я читал все Ваши адрессы в письме к С<ергею> Д<урову> и возьму их на всякий случай. Они, может быть, и надежны, но последнее письмо Ваше дошло вскрытое, и потому надо сильно остерегаться. Лучше же, если Вы захотите мне сделать счастье писать ко мне, то адресуйтесь к моему брату в Петербурге, или, может быть (не наверно только), он сам лично увидит Вас, или, наконец, пришлет к Вам доверенного человека. Брат мой теперь торгует, и потому, я думаю, адресс его найти нетрудно, напр<имер> в публикациях. Я сам адресса его не знаю. Впрочем, и Вам не советую полагаться на почту. Но так как, надо полагать, между Москвой и Петербургом ездят же Вам знакомые лица, то лучше всего доставить ему письмо ко мне по такой оказии. Таким образом, я буду иметь дело только с братом, и лучше всего в подобных случаях иметь одно сношение, чем два. Оно безопаснее. Впрочем, если найдете совершенно безвредную возможность писать ко мне другим путем, то, конечно, и это будет прекрасно, даже лучше, затем что я еще сам не знаю, каким образом буду я писать к брату. Я потому только так располагаю на него, что уж с ним-то непременно завяжу переписку. К тому же Вы живете в Марьине, а это обыкновенный путь из Москвы в нашу деревушку в Тульской губернии. Я раз 20 проезжал этой дорогой взад и вперед и потому могу представить себе ясно место Вашего убежища или, лучше сказать, Вашего нового заключения. С каким удовольствием я читаю письма Ваши, драгоценнейшая Н<аталия> Д<митриевна>! Вы превосходно пишете их, или, лучше сказать, письма Ваши идут прямо из Вашего доброго, человеколюбивого сердца легко и без натяжки. Есть натуры замкнутые и желчные, которые редко застают у себя добрую минуту экспансивности. Я знаю таких. И между тем это вовсе недурные люди, даже очень напротив.
Не знаю, но по Вашему письму я угадываю, что Вы с грустию нашли опять родину. Я понимаю это; я несколько раз думал, что если вернусь когда-нибудь на родину, то встречу в моих впечатлениях более страдания, чем отрады. Я не жил Вашею жизнию и не знаю многого в ней, как и всякий человек в жизни другого, но человеческое чувство в нас всеобще, и, кажется, при возврате на родину всякому изгнаннику приходится переживать вновь, в сознании и воспоминании, всё свое прошедшее горе. Это похоже на весы, на которых свесишь и узнаешь точно настоящий вес всего того, что выстрадал, перенес, потерял и что у нас отняли добрые люди. Но дай Вам Бог еще долгих дней! Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Н<аталия> Д<митриевна>. Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры, и находишь ее, собственно, потому, что в несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной.
Но об этом лучше перестать говорить. Впрочем, не знаю, почему некоторые предметы разговора совершенно изгнаны из употребления в обществе, а если и заговорят как-нибудь, то других как будто коробит? Но мимо об этом. Я слышал, Вы куда-то хотите ехать на юг? Дай Вам Бог выпросить позволение. Но когда же, скажите, пожалуйста, когда же мы будем совсем свободны или по крайней мере так, как другие люди? Уж не тогда ли, когда совсем не надо будет свободы? Что касается до меня, то я желаю лучше всего или уж ничего. В солдатской шинели я такой же пленник, как и прежде. И как я рад, что в душе моей нахожу еще надолго терпения, что благ земных не желаю и что мне надо только книг, возможности писать и быть каждодневно несколько часов одному. О последнем я очень беспокоюсь. Вот уже очень скоро пять лет, как я под конвоем или в толпе людей, и ни одного часу не был один. Быть одному — это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей сделается ядом и заразой, и вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти четыре года.5 Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них как на воров, которые украли у меня мою жизнь безнаказанно. Самое несносное несчастье, это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок, сознаешь всё это, упрекаешь себя даже — и не можешь себя пересилить. Я это испытал. Я уверен, что Бог Вас избавил от этого. Я думаю, в Вас, как в женщине, гораздо более было силы переносить и прощать.
Напишите мне что-нибудь, Н<аталия> Д<митриевна>. Я еду в глушь, в Азию, и уж там-то, в Семипалатинске, кажется, совершенно оставит меня всё прошлое, все впечатления и воспоминания мои, потому что последние люди, которых я любил и которые были передо мной, как тень моего прошедшего, должны будут расстаться со мной. Ужасно я сживчив, тотчас срастусь с тем, чем окружат меня, и с болью потом отрываюсь от этого. Живите, Н<аталия> Д<митриевна>. Живите счастливее и дольше! Когда мы увидимся, тогда вновь познакомимся, и, может быть, еще много счастливых дней будет на каждом из нас. Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто всё еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная. А может быть, это всё больные бредни мои! Прощайте, прощайте, Н<аталия> Д<митриевна>, или, лучше сказать, до свидания, будем верить, что до свидания!
Ваш Д<остоевский>.
PS Ради Господа Бога, простите меня за то, что я пишу Вам такие неопрятные и перемаранные письма! Но, ей-богу, не могу не перечеркивать. Не сердитесь же, пожалуйста.
Вот каковы были наблюдения ребят, не как были высказаны, но по порядку этих мест в тексте:
- Р. просто спросил, зачем квадратные скобки. Теперь будет знать, а раньше не услышал, когда-то ведь объясняла… потому и ответили ему ребята сами.
- С. заметил биографические подробности – солдатская шинель, Семипалатинск – а где это?
- Другого удивило, что Ф.М. не знает адрес брата – и тут же предположение: видно, брат непоседлив, любит менять место жительства!
- Третий удивился: почему место убежища=место заключения? И тут же получил ответ – но ведь жена декабриста наверняка и по возвращении под особым надзором. Указали дальше о том же – подробнее.
- Натуры желчные – недурные люди. Вот ведь как точно и милосердно! То ли это он про себя, то ли как бы про одного из своих героев.
- С пониманием и удивлением парадоксальности наблюдения – возвращение на Родину вызывает «более страдания, чем отрады»!
- Д., натуру цельную, смутило противоречие в строках о вере, где то о неверии до гроба, то о траве, без веры иссыхающей, то о преданности Христу… ребята отвечали, но тут уж и я встряла, и немного поговорила, напомнила пушкинское лицейское стихотворение «Безверие», очень близкое по мысли, читали в 10 классе.
- А знаменитая цитата, из-за которой я и письмо раскрыла, вызвала, конечно, удивление, на то и рассчитана, построена на парадоксе, я лишь напомнила слова Христа, которые снимают противоречие «Я есмь путь, и истина, и жизнь». И мы поговорили об истине прямолинейной и колючей, холодной и бесчеловечной, об истине буквы и Закона – и об истине милосердия, сострадания, любви – истине Благодати.
- Потребность и право быть одному… – как засияли на эту цитату глаза В., застенчивого до заикания, подлинного интроверта, долго не раскрывавшегося в классе парня, казалось, он был благодарен Федору Михайловичу за эти слова, лично благодарен.
- Слова про «сживчивость» сопоставили с впечатлением об озлобленности и жажде одиночества бедного ссыльного, и поговорили немного о том (они поговорили, а я только чуть помогала), что ведь все мы разные, у всех в душе уживается и одно, и другое.
- PS я оставила за собой – вот ведь, казалось бы, кто его осудит за чистоту письма, а извиняется человек… ну и, заодно, про латинские знаки на полях – что есть это PS, а вдобавок и NB, и sic!
И так-то хорошо и ненавязчиво получилась эта неожиданная импровизация. Она дала больше презентации и моего прочувствованного рассказал о любимой мной А.Г. Сниткиной-Достоевской. Постепенно Достоевский оживал, это был его голос, без посредников, не на публику: нервный, взволнованный, тактичный, мудрый. «Лишние» подробности давали ещё большее ощущение жизни.
В конце спросила – ну как? Да, очень хорошо. Хотя я и так видела, что встреча с Достоевским сегодня произошла у каждого. И у меня. Чем я хуже?
Татьяна Смирнова
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса
Мозаика
- 18–19 октября 2025 – БДФ.Школа в Санкт-Петербурге: Школа и театр
- 2 ноября 2021 г. — Лекция на тему "Мюзиклы, перевод и лингвистика" в Школе юного филолога НИУ ВШЭ
- Отважный вождь в городке. Выпуск №16
- Олимпиада Московского государственного университета экономики, статистики и информатики
- Оплата членских взносов
- Проблемы исторического образования: резонансное выступление учителя истории А.Ю. Морозова