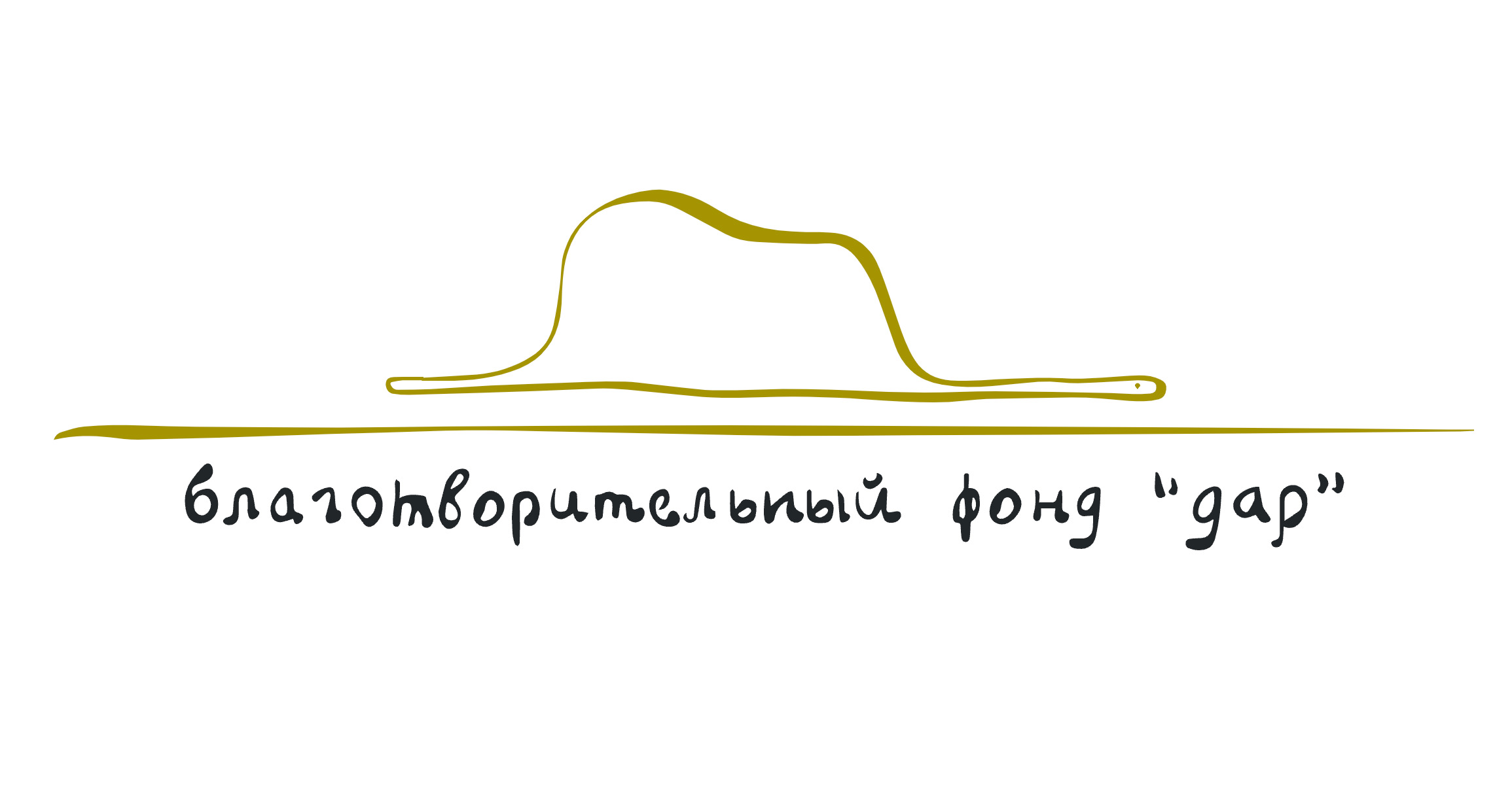С любезного разрешения редакции журнала «Новое литературное обозрение» перепечатываем статью, посвященную преподаванию литературы — главного идеологического предмета советской школы, основным моментам методики обучения, которые формировали идеологически грамотного советского гражданина.
Один из выводов статьи – современное литературное образование во многом наследует той эпохе и требует серьезного реформирования. Приглашаем коллег-словесников к дискуссии на эту тему.
Школа перестраивалась вместе со страной
Литературу в качестве отдельной дисциплины стали изучать в советской школе не сразу, с середины 1930-х годов. Пристальное внимание к изучению литературы совпало с резким разворотом государственной идеологии СССР — от всемирно-революционного проекта к национально-имперскому консервативному проекту. Школа перестраивалась вместе со страной и стала (не забывая о своей социалистической сущности) отчасти ориентироваться на дореволюционные гимназические программы. Литература, во многом формировавшая гуманитарный цикл русских гимназий, заняла центральное место и в советском учебном процессе. Первое место в табеле и дневнике школьника.
Литературе были переданы главные идеологические задачи в сфере воспитания молодого поколения. Во-первых, стихи и романы XIX века интереснее и ярче рассказывали об истории Российской империи и борьбе с самодержавием, чем сухой текст учебника по истории. А условно-риторическое искусство XVIII века (и чуть-чуть использованное в программе словесное творчество Древней Руси) позволяло изобличать тиранов намного убедительнее, чем аналитическое обществоведение. Во-вторых, картины жизни и сложные жизненные ситуации, которыми наполнены произведения художественной литературы, позволяли, не выходя за пределы исторического дискурса, применять историко-идеологические знания к конкретной жизни и собственным поступкам. Выработка убеждений, которой неминуемо занимались герои классической литературы, призывала советского школьника четко определить собственные убеждения — они, впрочем, были практически готовы и освящены ореолом революции. Стремление следовать раз и навсегда выбранным убеждениям тоже заимствовалось из классических текстов и всячески поощрялось. Идеологическое творчество дореволюционной интеллигенции, таким образом, настойчиво превращали в школьную рутину, параллельно воспитывая у детей уверенность в том, что они следуют лучшим традициям прошлого. Наконец, догмы советской идеологии, которым учили в школе, получали на уроках литературы непререкаемый авторитет, ибо «наши идеи» (как выражались теоретики) подавались в качестве многовековых чаяний всего прогрессивного человечества и лучших представителей русского народа. Советская идеология, таким образом, воспринималась как коллективный продукт, выработанный общими усилиями Радищева, Пушкина, Гоголя, Белинского и многих других, вплоть до Горького и Шолохова.
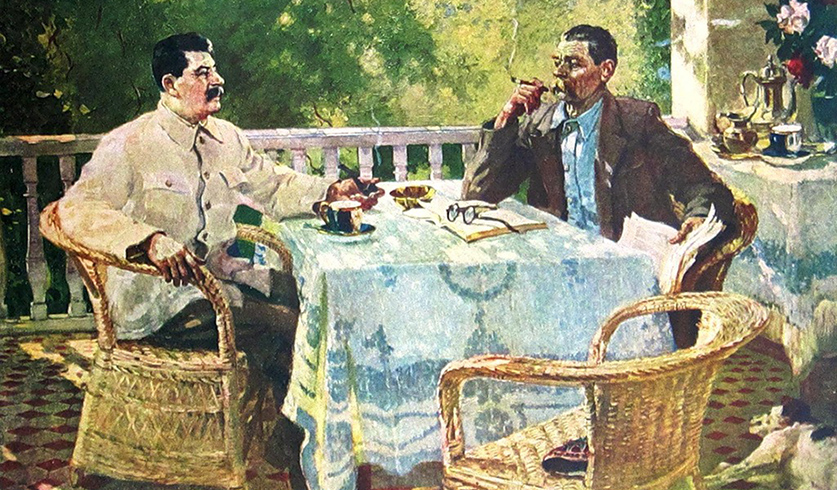
Не случайно уже к концу 1930-х годов педагоги-теоретики декларируют на страницах журнала «Литература в школе», появившегося в 1936 году для педагогического сопровождения главного школьного предмета: из двух составляющих обучения литературе — изучение художественного произведения и воспитание советского гражданина — воспитание должно стоять на первом месте. Показательны слова М.И. Калинина на учительском совещании в конце 1938 года: «Главная задача учителя – воспитание нового человека — гражданина социалистического общества» [Калинин 1938: 6]. Или название статьи главного редактора «Литературы в школе» Н.А. Глаголева «Воспитание нового человека — основная наша задача» [Глаголев 1939: 1].
Любой классический текст превращался в полигон для применения идей социализма к тем или иным вопросам и ситуациям.
Изучая в семилетней школе творчество, например, Н.А. Некрасова, учитель стремится не рассказать ученикам о поэте и его творчестве, а закрепить идеологический постулат: до революции крестьянину жилось плохо, после революции — хорошо. К изучению темы «Некрасов» привлекаются современный советский фольклор, стихи Джамбула и других советских поэтов и даже Сталинская конституция [Самойлович 1939]. Темы только что введенных в школьную практику сочинений демонстрируют тот же подход: «Богатыри старорусские и богатыри СССР», «СССР — наш молодой вишневый сад» [Пахаревский 1939].
Главные задачи урока: выяснить, как поведет себя ученик на месте того или иного персонажа (смог бы я, как Павка Корчагин?), — так создаются шаблоны поведения; и научить, как нужно думать на ту или иную тему (верно ли думал Павка о любви?), — так создаются шаблоны мышления. Результатом этого отношения к литературе (обучение жизни) оказывается «наивный реализм», который заставляет воспринимать книжного героя как живого человека — любить его как друга или ненавидеть как врага.
Характеристика литературных героев
«Наивный реализм» пришел в советскую школу из школы дореволюционной. Понимание литературы как «отражения действительности» свойственно не только Ленину и ленинизму, оно восходит к традициям русской критики XIX века (и далее к французскому материализму XVIII столетия), на основе которых создавался и дореволюционный учебник русской словесности. В учебниках В.В. Сиповского, по которому учились гимназисты предреволюционных лет, литература рассматривалась в широком культурно-общественном контексте, но, приближаясь к XIX веку, изложение все чаще использовало метафору отражения. Интерпретации произведений в дореволюционном учебнике часто построены в виде суммы характеристик основных персонажей. Эти характеристики и позаимствовала советская школа, приблизив их к новому, бюрократическому значению слова.
Характеристика — основа «разбора» программных произведений в советском учебнике и наиболее распространенный вид школьного сочинения: «Характеристика героя — это раскрытие его внутреннего мира: мыслей, чувств, настроений, мотивов поведения и т.п. <...>. В характеристике действующих лиц важно выявить, прежде всего, их общие, типические черты, и наряду с этим — частные, индивидуальные, своеобразные, отличающие их от других лиц данной общественной группы» [Мирский 1936: 94–95]. Показательно, что типические черты стоят на первом месте, ибо герои воспринимаются школой как живая иллюстрация отживших классов и ушедших эпох. «Частные черты» позволяют смотреть на литературных героев как на «старших товарищей», брать с них пример. Не случайно литературных героев XIX века сравнивают (почти обязательный методический прием в среднем звене школы) с героями века XX — стахановцами и папанинцами – современным образцом для подражания. Литература здесь прорывается в действительность или, точнее, мифологизируемая действительность смыкается с литературой, создавая ткань соцреалистической монументальной культуры. «Наивный реализм», тем самым, играет важнейшую роль в воспитании мировоззрения.
Не менее важна воспитательная роль характеристик. Они помогают усвоить, что коллективное — главное, а личное может существовать лишь постольку, поскольку не мешает коллективу. Они учат видеть не только человеческие поступки, но и их классовые мотивы. Трудно переоценить значение этого метода в эпоху настойчивых поисков классового врага и бдительной слежки за соседом. Обучение характеристике имеет и прагматический характер — это основной жанр официального высказывания (как в устной, так и в письменной форме) в советской общественной жизни. Характеристика — основа персональных обсуждений на пионерском, комсомольском, партийном собрании, (товарищеском) суде. Характеристика с места работы/учебы — официальный документ, необходимый в целом ряде случаев — от приема на работу до взаимоотношений с правоохранительными органами. Таким образом, нет ничего случайного в том, что ребенка учат описывать литературного героя как своего школьного товарища. Это уравнение легко может быть перевернуто: школьного товарища советский учащийся будет характеризовать так же умело, как и литературного героя. Переходным жанром (особенно если учитывать, что многие речевые жанры в 1930-е годы приближались к стилистике доноса) становится жанр рецензии — не только на текущую печатную продукцию, но и на сочинения товарищей по классу.

Характеристики применяются ко всем без исключения героям (включая императрицу Елизавету Петровну из оды Ломоносова или горьковского ужа — курьезные примеры Г.А. Гуковского), они выстроены по стандартному плану, но основной шаблон, который должны вынести ученики с уроков литературы, — это формулировки положительных и отрицательных качеств, напрямую вытекающие из тех или иных поступков, высказываний, мыслей.
Все советские методисты (и изящно мыслящий Г.А. Гуковский, и прямолинейно-идеологический В.В. Голубков) сходятся в одной важнейшей мысли: нельзя доверить школьнику самостоятельно читать классические произведения. Мысль школьника должен направить учитель. Перед изучением нового произведения учитель проводит беседу, рассказывая об основных проблемах, затронутых в произведении, и эпохе создания текста. Особая роль во вступительной беседе отводится биографии автора: «…история жизни писателя — это не только история его роста как личности, его писательской деятельности, но и его общественной деятельности, его борьбы против темных сил эпохи <…>» [Литвинов 1938: 81]. Понятие борьбы становится ключевым в школьном курсе литературы. Во многом следуя «стадиальной теории» Г.А. Гуковского, заложившей основы советской науки о литературе, школа воспринимает литературный процесс как важнейшее орудие общественной борьбы и революционного дела. Изучая историю русской литературы, школьники приобщаются к истории революционных идей и сами становятся частью революции, продолжающейся в современности.
Учитель — передаточное звено в процессе трансляции революционной энергии.
Рассказывая ученикам биографию Чернышевского, он должен весь гореть, взволнованно и увлекательно «заражая» детей (понятие заимствуется у «психологической школы», а также литературной публицистики конца XIX века — см., например, работу Л.Н. Толстого «Что такое искусство?») идеями и чувствами великого человека. Иными словами, учитель должен показать ученикам образцы ораторской речи и научить детей продуцировать такую же «зараженную» речь. Нельзя говорить о великих людях без волнения, — хором утверждают методисты. Отныне ученик не может спокойно рассказывать на уроке и тем более на экзамене о Белинском или Николае Островском. Ребенок со школьной скамьи усваивал актерство, искусственно взвинченный надрыв. При этом он хорошо разбирался, какая степень надрыва соответствует обсуждаемой теме. Результатом оказывалось резкое и принципиальное расхождение между подлинным чувством и чувствами, изображаемыми на публике; собственной мыслью и словами, выдаваемыми за собственную мысль.
Задача «заразить», «зажечь» учащихся определяет доминирование на уроках литературы риторических жанров — выразительного чтения вслух, эмоциональных рассказов учителя (термин «лекция», появившийся поначалу, вытесняется из сферы школьной педагогики), эмоциональных высказываний учеников. Информативное содержание школьного предмета методисты все более сводят к риторическим жанрам урока. Например, утверждают, что именно выразительное чтение текста помогает лучше уяснить авторскую мысль. Известный московский учитель уверен, что «экспозиция текста» глубже и предпочтительнее любого анализа: «Три урока, отданные чтению (с комментариями) “Гамлета” в классе, дадут учащимся больше, чем длинные разговоры по поводу трагедии...» [Литвинов 1937: 86].
Риторизация обучения приводит к восприятию любого учебного приема как (риторического) акта принадлежности к социалистическому государству. Учебные сочинения, выводящие историю литературы на просторы идеологии, быстро превращаются в сочинения, декларирующие преданность партийным и советским вождям. Кульминационный момент такого обучения-воспитания — предложение ученикам к празднику 1 мая написать письма-поздравления выдающимся людям Советской страны: «Написать такие письма товарищам Сталину, Ворошилову и др., прочесть их в классе, заставить весь класс пережить такой момент — это помогает ребятам почувствовать себя гражданами великой страны, почувствовать кровно, близко великих людей нашей эпохи <...>.
И нередко такое письмо заканчивается обещаниями «учиться на “отлично” и “хорошо”», «не иметь плохих отметок», «стать таким, как Вы». Отметка за знания становится для маленького автора реальным политическим фактором и взвешивается в аспекте его гражданского долга перед всей страной» [Денисенко 1939: 30].
Сочинение раскрывается в мифологию соцреализма, демонстрируя и заданием, и исполнением: 1) единство и почти родственную близость людей, составляющих Советское государство; 2) непосредственный контакт массы и вождя; 3) долг и ответственность каждого гражданина СССР, даже ребенка.
Сочинения такого рода практикует все больше и больше учителей, и в них, как по мановению волшебной палочки, нет орфографических ошибок [Пахаревский 1939: 64]. Идеология подменяет собой обучение и творит чудеса. Педагогический процесс достигает кульминации, и становится неясно, чему еще можно обучить ученика, который написал блестящее сочинение, адресованное товарищу Сталину?
* * *
Усиление идеологической подпитки уроков литературы естественным образом происходит в эпоху войны и сразу после нее. В стране менялись идеологические постулаты. От воспитания революционного интернационализма школа уже к концу 1930-х годов перешла к воспитанию советского патриотизма [Сазонова 1939]. С началом войны патриотическая струя стала основой советской идеологии, причем любовь к Родине смешивалась с любовью к коммунистической партии, ее вождям и лично к товарищу Сталину. Писателей школьной программы поголовно объявили пламенными патриотами, изучение их творчества свели к заучиванию патриотических лозунгов, которые нарезало из классических текстов новое поколение литературоведов. Фразы, кажущиеся непатриотическими (в духе лермонтовского «Прощай, немытая Россия...»), следовало считать патриотическими, поскольку борьба с самодержавием, а также любое указание на отсталость русского народа продиктованы любовью к Родине.

Русскую советскую литературу назвали самой передовой на планете; учебники и новые программы, а также темы выпускных сочинений стали ориентироваться на тезис «Мировое значение русской и советской литературы».
Патриотизм вдохнул новую жизнь в биографический метод.
Читая биографию писателя, ученик должен был учиться у писателя патриотизму и заодно испытывать гордость за великого сына России. Внутри таких биографий самый обычный поступок оказывался патриотическим служением: «Попытка Гоголя поступить на сцену Александринского театра, его занятия в классе живописи Академии художеств, попытка выступить в печати <...> все это свидетельствует о стремлении Гоголя служить народу искусством» [Смирнов 1952: 57]. Биографический подход нередко определял и изучение текста: «Беседу о романе (“Молодая гвардия”. — Е.П.) целесообразно строить по этапам жизненного пути молодогвардейцев» [Трифонов 1952: 33]. С сокращением программных часов, отведенных литературе, многие биографии изучаются менее подробно, да и биография писателя в целом становится типовой. Но, несмотря ни на что, биография — самоцель: жизнь писателей изучают в школе, даже если из программы полностью выпадает их творчество.
Для того чтобы усвоить патриотические идеи писателя, совсем не нужно его читать. Обзорное изучение тем и произведений (обзорные лекции) стало общей практикой. Если в 1930-е годы школа отказалась от анализа во имя текста произведения, то в начале 1950-х она отказалась и от текста. Ученик, как правило, читал теперь не произведения, а отрывки из них, собранные в учебники и хрестоматии. Кроме того, учитель внимательно следил за тем, чтобы ученик «правильно» понял прочитанное. С 1949/50 учебного года школа получала не только программы по литературе, но и комментарии к программам. Если хрестоматия, обзор и биография заменяли подлинный текст другим, сокращенным, то «правильное понимание» меняло саму природу текста: вместо произведения школа начинала изучать методические инструкции.
Представление о «правильном» прочтении текста появилось еще до войны, ибо марксистско-ленинское учение, на котором строились интерпретации, объясняет все раз и навсегда. Патриотическая доктрина окончательно закрепила «правильное» прочтение текста. Это представление весьма устраивало школу, оно делало литературу похожей на математику, а идейное воспитание — строгой наукой, не допускающей случайных значений, вроде разницы характеров или вкусов. Обучение литературе превратилось в заучивание правильных ответов на каждый возможный вопрос и встало в один ряд с вузовскими марксизмом и историей партии.
В идеале, по-видимому, предполагались подробные инструкции для изучения каждого произведения школьной программы. «Литература в школе» публикует много статей-инструкций почти абсурдного характера. Например, статью о том, как нужно читать стихотворение «Размышления у парадного подъезда», чтобы изучить его «правильно»: где выразить голосом сочувствие, где – гнев [Колокольцев, Бочаров 1953].
Принцип анализа произведения — по образам — не изменился с довоенного времени (извлечение образов из текстовой ткани не противоречило методическому стремлению всеми способами убить текст). Разрослась классификация характеристик: их стали делить на индивидуальные, сравнительные, групповые. Основой рассказа о персонаже было указание на его «типичность» — для своей среды (синхронический анализ) и эпохи (диахронический анализ). Классовая сторона характеристики лучше всего проявлялась в характеристиках групповых: фамусовского общества, чиновников в «Ревизоре», помещиков из «Мертвых душ». Характеристика имела и воспитательное значение, особенно при изучении советской литературы. Действительно, что может быть поучительнее характеристики предателя из «Молодой гвардии»: жизнь Стаховича, поясняет методист, — ступеньки, по которым человек скатывается к предательству [Трифонов 1952: 39].
Сочинение обрело в этот период исключительное значение.
Экзамены на аттестат зрелости в выпускном классе начинались с обязательного сочинения по литературе. Для тренировки сочинения стали писать по нескольку раз в каждом из старших классов (в средней школе его аналогом было изложение с элементами сочинения); в идеале — после каждой пройденной темы. В плане практическом это было последовательное обучение свободной письменной речи. В идеологическом же плане сочинение превращалось в регулярную практику демонстрации идейной лояльности: ученик должен был не просто показать, что усвоил «правильное» понимание писателя и текста, он должен был одновременно продемонстрировать самостоятельность в употреблении идеологем и нужных тезисов, умеренно проявить инициативу — впустить идеологию в себя, внутрь собственного сознания. Сочинения приучали подростка говорить официальным голосом, выдавая навязанное в школе мнение за внутреннее убеждение. Ведь письменная речь оказывается более весомой, чем устная, более «своей» — написанной и подписанной собственной рукой. Эта практика «заражения» нужными мыслями (так, чтобы человек воспринимал их как собственные; а непроверенных мыслей боялся — вдруг они «неправильные»? вдруг «не то скажу»?) не просто пропагандировала определенную идеологию, а создавала поколения с деформированным сознанием, не умеющие жить без постоянной идеологической подпитки. Идеологическую подпитку в последующей взрослой жизни осуществляла вся советская культура.
Для удобства «заражения» сочинения разделили на литературные и публицистические. Литературные сочинения писались по произведениям школьной программы, публицистические внешне казались сочинениями на свободную тему. В них, на первый взгляд, нет фиксированного «правильного» решения. Однако стоит лишь взглянуть на примерные темы («Мой Горький», «Что я ценю в Базарове?», «Почему я считаю “Войну и мир” самым любимым своим произведением?»), чтобы понять, что свобода в них призрачна: советский школьник не мог написать о том, что он совсем не ценит Базарова и не любит «Войну и мир». Самостоятельность распространяется лишь на компоновку материала, его «оформление». А для этого надо вновь впустить идеологию в себя, самостоятельно отделить «правильное» от «неправильного», придумать аргументы к заранее данным выводам. Еще сложнее задача у пишущих сочинения на свободные темы по советской литературе, например: «Руководящая роль партии в борьбе советских людей с фашизмом (по роману “Молодая гвардия” А.А. Фадеева)». Здесь нужно использовать знания по общей идеологии: писать о роли партии в СССР, о роли партии во время войны, а из романа приводить доказательства — особенно в тех случаях, когда не хватает доказательств «из жизни». С другой стороны, к такому сочинению можно подготовиться заранее: как бы ни сформулировали тему, писать надо примерно об одном и том же. Статистика сочинений на аттестат зрелости, которую приводят сотрудники Министерства просвещения, говорит о том, что многие выпускники выбирают публицистические темы. Это, надо думать, «лучшие ученики», не слишком освоившие тексты произведений и программу по литературе, но виртуозно овладевшие идеологической риторикой.
В сочинениях такого рода сильно помогает и повышенная эмоциональность (опробованная еще до войны в устных ответах), без которой нельзя говорить ни о литературе, ни об идейных ценностях советского человека. Так говорят учителя, таковы литературные образцы. На экзаменах ученики отвечают «убедительно, искренне, взволнованно» [Любимов 1951: 57] (три разных по лексическому значению слова становятся контекстуальными синонимами и составляют градацию). Так же и в письменной работе: «элементарно-научный» стиль, по классификации А.П. Романовского, должен соединяться с «эмоциональным» [Романовский 1953: 38]. Впрочем, даже этот методист признает: школьники часто чересчур эмоциональны. «Неумеренная риторика, ходульность и искусственный пафос — особенно распространенная разновидность манерной речи в выпускных сочинениях» [Романовский 1953: 44].
Шаблонная взволнованность соответствует шаблонному содержанию школьных работ. Борьба с шаблонами в сочинениях становится важнейшей задачей преподавателей. «Часто бывает так, что учащиеся <…> пишут сочинения на разные темы по штампу, изменяя только фактический материал. <...> “Такой-то век (или такие-то годы) характеризуется… В это время жил и создавал свои произведения замечательный писатель такой-то. В таком-то произведении он отразил такие-то явления жизни. Это видно из того-то и того-то” и т.д.» [Кириллов 1955: 51]. Как избежать шаблона? Учителя находят только один ответ: при помощи правильной, нешаблонной формулировки тем. Например, если вместо традиционной темы «Образ Манилова» ученик будет писать на тему «Что меня возмущает в Манилове?», то он не сможет списать с учебника.
* * *
Чтение вне школы остается неконтролируемым
В послевоенный период внимание методистов и учителей привлекло внеклассное чтение учеников. Мысль о том, что чтение вне школы остается неконтролируемым, не давала покоя. Были сформированы рекомендательные списки для внеклассного чтения, списки выдавались школьникам, через определенное время проводилась проверка, сколько книг прочитано и что усвоил ученик. На первом месте в списках — военно-патриотическая литература (книги о войне и о героическом прошлом России, подвигах Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова). Затем книги о сверстниках, советских школьниках (не без примеси военной темы: большая часть этих книг посвящена пионерам-героям, детям на войне). По мере сокращения программ сферу внеклассного чтения заполняет и все то, чему больше нет места на уроках (например, вся западноевропейская классика). На уроки внеклассного чтения уходят популярные в тридцатые годы формы спора, дискуссии, диспута. Дискутировать о программных произведениях больше нельзя: у них есть незыблемое «правильное» значение. А вот о произведениях неклассических поспорить можно — проверяя их теми знаниями, которые получены на уроках. Школьникам иногда разрешают выбрать — не точку зрения, но любимого персонажа: между Павлом Корчагиным и Алексеем Мересьевым. Вариант: между Корчагиным и Олегом Кошевым.

Книги о труде и особенно книги о советских детях низводили уроки внеклассного чтения на уровень идеологизированного быта. Обсуждая на читательской конференции повесть И. Багмута «Счастливый день суворовца Криничного», директор одной из школ указывает ребятам не только на правильное понимание подвига, но и на необходимость поддержания дисциплины [Митекин 1953]. А учительница К.С. Юдалевич медленно читает с пятиклассницами «Повесть о Зое и Шуре» Л.Т. Космодемьянской. От военной героики остается только ореол, внимание учениц приковано к другому — к воспитанию Зои, к ее школьным годам: ученицы говорят о том, как Зоя помогала матери, как отстаивала честь класса, как боролась с ложью, с подсказыванием и списыванием [Юдалевич 1953]. Школьный быт становится частью идеологии — это советский образ жизни, эпическая жизнь народа-победителя. Подсказывать или плохо учиться не просто плохо, это нарушение свыше данных правил.
Учителя не устают называть литературу «учебником жизни». Иногда такое отношение к книге отмечают и у литературных персонажей: «Художественная литература для молодогвардейцев не средство отдыха или развлечения. Книгу они воспринимают как “учебник жизни”. Об этом свидетельствует, например, тетрадка Ули Громовой с выписками из прочитанных книг, звучащими как руководство к действию» [Трифонов 1952: 34]. Дидактика, которой становится все больше на уроках литературы, выливается в откровенное морализирование, и уроки под углом зрения «Как жить?» становятся уроками морали. «Взволнованная» десятиклассница пишет сочинение по «Молодой гвардии»: «Читаешь и думаешь: “А смогла бы ты так? Смогла бы ты без боязни за свою жизнь вывешивать красные флаги, расклеивать листовки, выдерживать тяжкие лишения? <…> Встать к стенке и умереть от пули палача?”» [Романовский 1947: 48]. Собственно, что может помешать умереть поставленному к стенке? Вопрос «Смогла бы?», дотянувшийся из начала пассажа до последнего элемента градации, отрицает сам себя. Но ни девушка, ни ее учитель не ощущают натяжки, продуцирующей необходимую искренность. Такие повороты темы всячески поощряются: ученикам каждый раз предлагается примерить платье героев на себя, нырнуть в сюжет для самопроверки. А попав в сюжет, сознание школьника затвердевает, становится прямолинейно-моралистичным. Это и есть воспитание мировоззрения.
* * *
Эпоха оттепели несколько изменила практики советской школы. Борьба с шаблонами, буксовавшая с конца сороковых годов, получила поощрение свыше. От учебных инструкций решительно отказались. Вместе с инструкциями отвергли обзорное изучение тем, разговоры о «типичности» героев и все остальное, что уводит внимание ученика от произведения. Акцент делался теперь не на общие черты, сближающие изучаемый текст с другими, а на индивидуальные особенности, выделявшие его из общего ряда. Языковые, образные, композиционные — одним словом, художественные.
Мысль о том, что «художественное творчество» нельзя преподавать не творчески, доминирует в статьях учителей и методистов. Главной причиной превращения уроков литературы в «серую, скучную жвачку» считают «“засушенные” (слово вскоре станет общепринятым термином. — Е.П.), регламентирующие каждый шаг программы» [Новоселова 1956: 39]. Упреки в адрес программ посыпались градом. Они были тем более удобны, что позволяли многим оправдать свою педагогическую беспомощность. Однако критика программ (и всякой унификации обучения) имела важнейшее следствие — учителя де-факто получили свободу не только от обязательных интерпретаций, но и от любой регламентации урока. Методисты вынуждены были признать, что обучение литературе — сложный процесс, который невозможно распланировать заранее, что учитель может по своему усмотрению увеличивать или уменьшать количество часов, отведенное на ту или иную тему, менять ход урока, если этого требует неожиданный вопрос ученика.
На страницах «Литературы в школе» появляются новые авторы, учителя-новаторы, которые задают тон всему журналу и предлагают несколько новых концепций обучения. Они стремятся к непосредственному восприятию текста — вспоминая предвоенные идеи. Но в то же время впервые говорят о читательском восприятии учеников. Вместо вводной беседы, полагают новаторы, лучше просто спросить школьников о прочитанном, что понравилось и не понравилось. Если произведение ученикам не понравилось, учителю следует их переубедить всем изучением темы.
Другой вопрос — как изучать произведение. Сторонники и противники анализа текстов устраивали громкие дискуссии на учительских съездах и совещаниях, на страницах «Литературы в школе» и «Литературной газеты». Вскоре родился компромисс в виде комментированного чтения произведений. Комментарий содержит элементы анализа, способствует углубленному пониманию текста, но не мешает непосредственному восприятию. На основе этой идеи к 1968 году был создан последний советский учебник для 8-го и 9-го класса (по классической русской литературе). Прямых идеологических инвектив в нем стало меньше, их место занял комментированный пересказ произведений (подробнее см.: [Пономарев 2014]). Комментирование сильно разбавило советские идеологемы и в учительской практике. Но обязанность учителя переубеждать ученика, сказавшего, что ему скучна поэзия Маяковского или роман «Мать», оставляла идеологемы в силе. Ученику же, неудачно разоткровенничавшемуся с учителем, было проще сыграть обращенного, чем продолжать упорствовать в своей ереси.
Вместе с комментарием в школу медленно возвращалось научное литературоведение.
В конце 1950-х школа воспринимает термин «текст» как научно-обобщающий синоним для обыденного «произведения», появляется понятие «анализ текста». Образец комментированного чтения чеховской пьесы дан в статье М.Д. Кочериной: учительница подробно останавливается на том, как развивается действие, на «подводном течении» и скрытом подтексте в репликах героев и ремарках автора, пейзажных зарисовках, звуковых моментах, паузах [Кочерина 1962]. Это анализ поэтики, как понимали его формалисты. А в статье, посвященной актуализации восприятия «Мертвых душ», Л.С. Герасимова предлагает буквально следующее: «Очевидно, при изучении поэмы нужно обращать внимание не только на то, что представляют собой эти герои, но и на то, как “сделаны” эти образы» [Герасимова 1965: 41]. Почти полвека потребовалось классической статье Б.М. Эйхенбаума, чтобы дойти до школы. Вместе с ней в школу осторожно проникают и новейшие советские исследования, продолжающие линию формального анализа, — входящий в моду структурализм. В 1965 году Г.И. Беленький публикует статью «Автор — рассказчик — герой», посвященную точке зрения повествователя в «Капитанской дочке». Это методический пересказ идей Ю.М. Лотмана («Идейная структура “Капитанской дочки”», 1962), в финале звучит и модное слово «структура». Школа увидела перспективу — возможность движения к науке о литературе. Но тут же перспективы испугалась, закрывшись педагогикой и психологией. Формалистское «как сделана» и тартуская «структура» обернулись в школьной методике понятием «художественное мастерство писателя».
«Мастерство писателя» стало спасительным мостиком, который вел от «непосредственного восприятия» к «правильному значению». Это был удобный инструмент в том случае, если ученик считал роман «Мать» скучным и неудачным, а поэзию Маяковского — рифмоплетством. Тут опытный учитель указывал школьнику на поэтическое (писательское) мастерство, и ученику ничего не оставалось, как признать правоту научного знания.

Другая новаторская методика — «эмоционализм» — предлагала сконцентрировать внимание на тех чертах персонажей, которые имеют общечеловеческую значимость. И.Я. Кленицкая, читая на уроке «Героя нашего времени», говорила не о лишнем человеке в условиях николаевского царствования, а о противоречиях человеческой натуры: о том, что незаурядная личность, тратящая все силы на удовлетворение собственных прихотей, приносит людям только зло. А заодно о горе отвергнутой любви, привязанности одинокого Максима Максимыча к молодому приятелю и других сторонах душевной жизни [Кленицкая 1958]. Кленицкая читает вслух отрывки, которые способны вызвать в учениках самые сильные эмоции, добиваясь глубокого сопереживания. Так трансформируется идея «заражения»: от патриотического горения школа движется к общечеловеческому. Это новое — хорошо забытое старое: в 1920-е годы М.О. Гершензон предложил использовать на уроках «вчувствование в текст», но крупный методист В.В. Голубков заклеймил эту методику как несоветскую.
Статья Кленицкой вызвала мощный резонанс в силу выбранной позиции. Не отказываясь от социально-политических оценок текста, она указала на их односторонность и неполноту. А по сути (не говоря об этом вслух) – на их ненужность. Эмоционализм допускал множественность интерпретаций и отрицал тем самым «правильное значение» текста. По этой причине эмоционализм, даже поддержанный на высоком уровне, не смог занять доминирующие позиции. Педагоги предпочитали комбинировать его с «анализом» и, так или иначе, сводить к привычным («серьезным») методикам. Он сделался украшением объяснений и ответов, стал новым вариантом педагогической взволнованности.
Настоящей школьной реформе сильнейшим образом мешало «правильное значение произведения». Оно не ушло из школы и не было подвергнуто сомнению. Осуждая частности, учителя-новаторы не смели замахнуться на основы государственной идеологии. Отказ от «правильного значения» означал отказ от самой идеи социализма. Или, по крайней мере, освобождение литературы от политики и идеологии, что противоречило изучавшимся в школе статьям Ленина и всей выстроенной в тридцатые годы логике литературного курса. Реформаторские потуги, продолжавшиеся несколько лет, прекратили официальные литературоведы-идеологи. Чуть не единственный раз в жизни снизойдя до «Литературы в школе», Д.Д. Благой опубликовал в ней программную статью, в которой утверждал, что безответственность реформаторов зашла слишком далеко. Цель обучения литературе, поучает крупнейший советский функционер от литературы, состоит в том, чтобы «углубить ... непосредственное восприятие до правильного — и исторического и идейно-художественного — понимания» [Благой 1961: 34]. Никакое комментирование, никакая эмоциональность, по его мнению, не смогут заменить обучающий урок. Место эмоциям и спорам — за пределами класса: на литературных кружках и пионерских собраниях.
Одним словом, реформаторский запал оттепели так же быстро прошел в советской школе, как и во всей советской стране. Комментирование и эмоционализм остались в учебном процессе в роли вспомогательных методик. Заменить основной метод ни тот, ни другой не смогли. В них не было мощной всеобъемлющей идеи, сопоставимой со «стадиальной теорией» Гуковского, продолжавшей и после смерти автора выстраивать школьный курс.
Однако эпоха оттепели существенно изменила некоторые школьные практики, на первый взгляд кажущиеся второстепенными. В меньшей степени это относится к сочинениям, в большей — к внеклассному чтению. С шаблонными сочинениями стали бороться не только на словах — и это дало определенные плоды. Первым шагом стал отказ от трехчастного плана (вступление, основная часть, заключение). Выяснилось, что этот план не вытекает из универсальных законов человеческого мышления (до 1956 года методисты полагали обратное). Усилилась борьба с шаблонными формулировками тем, они стали «личностно ориентированными» («Пушкин — друг моей юности», «Мое отношение к поэзии Маяковского до и после изучения ее в школе») и даже иногда связанными с эстетической теорией («В чем заключается соответствие формы произведения содержанию?»). Учителя-новаторы предлагали темы и вовсе нетрадиционные: «Как я представляю, что такое счастье», «Что бы я сделал, если бы был человеком-невидимкой», «Мой день в 1965 году — последнем году семилетки». Однако новому качеству сочинений мешала идеология. О чем бы ни писал советский школьник, он, как и прежде, демонстрирует «правильность» своих убеждений. Это и есть, по сути, единственная тема школьного сочинения: мысли советского человека. А.П. Романовский веско формулирует в 1961 году: главная цель выпускного сочинения — проверка зрелости мировоззрения [Романовский 1961].
Либеральная эпоха существенно расширяет горизонты внеклассного чтения.
Увеличивается список книг о жизни детей в царской России: «Ванька» А.П. Чехова, «Белый пудель» А.И. Куприна, «Белеет парус одинокий» В. Катаева. Показательно, что теперь отбираются сложные, не прямолинейно-идеологические произведения. Совершенно новы для внеклассного чтения произведения иностранных авторов: в 5-м классе изучается Дж. Родари; ребятам постарше предлагают прочитать «Овод» Э.Л. Войнич. Учителя-новаторы читают сами и поощряют школьников к чтению всей той литературы, которую они пропустили за несколько десятилетий (Хемингуэй, Кронин, Олдридж), а также современных западных произведений, которые перевели в СССР: «Зима тревоги нашей» (1961) Джона Стейнбека, «Над пропастью во ржи» (1951) Джерома Сэлинджера, «Убить пересмешника» (1960) Харпер Ли. Активно обсуждают школьники и современную советскую литературу (на страницах «Литературы в школе» проходит дискуссия о творчестве В.П. Аксенова, неоднократно упоминается А.И. Солженицын, обсуждаются последние произведения А.Т. Твардовского, М.А. Шолохова). Культура чтения, сложившаяся у школьников начала 1960-х годов, стремление читать максимально новое, ранее неизвестное, ни на что не похожее определили книжный «запой» эпохи перестройки — времени, когда выросли и стали зрелыми школьники шестидесятых.
Небывалое расширение литературных горизонтов привело к небывалому расширению обсуждаемых тем. Учителям стало намного труднее сводить школьных классиков к прописным истинам и отработанным матрицам. Научившись читать и высказываться свободнее, школьники шестидесятых (конечно, не все и не во всем) научились ценить собственные впечатления от прочитанного. Ценить выше шаблонных фраз учебника, хоть и продолжали пользоваться ими для подготовки экзаменационных ответов. Литература медленно освобождалась от идеологической «жвачки».
О том, что в школе что-то существенно изменилось, свидетельствовала дискуссия о целях обучения литературе.
Основные цели сформулировал крупнейший методист той эпохи Н.И. Кудряшев:
- задачи эстетического воспитания;
- нравственное воспитание;
- подготовка учащихся к практической деятельности;
- объем и соотношение знаний и навыков по литературе и русскому языку [Кудряшев 1956: 68].
Показательно, что в списке нет воспитания мировоззрения. Оно уступило место эстетике и нравственности.
Учителя-новаторы стали дополнять список. М.Д. Кочерина указала, что важнейшей целью уроков литературы ей кажется развитие мышления [Кочерина 1956: 32]. И.Я. Кленицкая полагала, что литература важна прежде всего «для познания человеческого сердца, для облагораживания чувств учащихся <…>» [Кленицкая 1958: 25]. Московский учитель В.Д. Любимов заявил, что произведения школьной программы «представляют собой как бы увлекательные высказывания писателей по волнующим их вопросам общественного бытия…» [Любимов 1958: 20]. Общественное бытие было уступкой прежним методам, но общее представление, предложенное Любимовым, приближало изучение литературы к истории философии и социологии; на современном языке мы бы назвали это историей идей. Учитель знаменитой Второй школы Москвы Г.Н. Фейн (в будущем диссидент и эмигрант — редкий случай среди советских учителей) предложил учить специфике образного мышления: «Научить читать – это значит научить, глубоко проникая в движение авторской мысли, формировать свое понимание действительности, свое понимание сущности человеческих отношений» [Фейн 1962: 62]. В советской педагогической мысли вдруг появилось многообразие.
Советская идеология не могла этого допустить.
И надо всеми предложенными целями вновь поставили главную – воспитание человека коммунистической эпохи. Эта формулировка появилась после XXII съезда КПСС, точно назвавшего дату построения коммунизма. Новые цели свели к старым — образца позднего сталинизма. Учителя должны были снова воспитывать мировоззрение. Все остальные цели низвели до уровня технических задач.
В статусе технических задач некоторые новации были приняты. Больше всего повезло идее всестороннего эстетического воспитания. Учителям разрешают использовать на уроках «смежные виды искусства» (хотя при этом и не советуют «перегибать палку») — картины и музыкальные произведения. Ибо они помогают понять природу лирики, которую, не без влияния новой поэзии 1960-х, постепенно перестают сводить к лозунговым формам позднего Маяковского. Все чаще учителя пытаются объяснить ученикам природу поэтического образа: например, у пятиклассников спрашивают, что они себе представляют, прочитав словосочетание «белая бахрома» (стихи С.А. Есенина медленно проникали в программу со стороны младшей школы). На связь лирической поэзии с музыкой указывают при изучении любовной лирики Пушкина, превратившейся в романсы. Усиливается роль сочинений по картине. Теперь это не просто прием обучения повествованию, но акт приобщения к искусству, постижения живописи. Изобразительное искусство служит существенным подспорьем при объяснении важности пейзажа в классических текстах. Все это вместе, с одной стороны, подчеркивает: литература — не идеология; художественный образ не равен понятию «персонаж». С другой стороны, увлекаясь музыкой и картинами, учитель неминуемо впадает в искушение поговорить об искусстве вообще, забывая о специфике литературы, о нарративной природе текста. Чтобы приучить школьника читать, его учили смотреть и слушать. Парадоксально, но факт: постигать литературу учили в обход литературы.
Другая принятая формулировка — воспитание нравственности.
Если добавить к слову «нравственность» эпитет «коммунистическая», легко получалась задача, связанная с воспитанием мировоззрения. Однако все чаще учителя переносят «нравственность» на бытовой уровень, избавляя ее от шлейфа абстрактных идеологем. Например, на уроках по «Евгению Онегину» учителя не могут не обсудить с девочками, права ли Татьяна, сама объяснившись в любви. В этом контексте писатель воспринимался как носитель абсолютной нравственности и учитель жизни, знаток (уже не инженер) человеческих душ и глубокий психолог. Писатель не может учить плохому; все почитаемое школой безнравственным (антисемитизм Достоевского, религиозность Гоголя и Л.Н. Толстого, демонстративный аморализм Лермонтова, любвеобильность А.Н. Толстого) замалчивалось, объявлялось случайным или вовсе отрицалось. История русской литературы превращалась в учебник практической нравственности. Эта тенденция существовала и ранее, но никогда она не принимала столь завершенной и откровенной формы.

Нравственная доминанта, подчинившая себе школьный курс литературы, принесла в школу понятие, которому была суждена долгая педагогическая жизнь. Это «авторская позиция», описываемая большей частью как отношение автора к своему герою. Пока учителя-новаторы пытались убедить коллег, что нельзя смешивать позицию повествователя в тексте с убеждениями автора в жизни, а мысли персонажей с мыслями писателя, некоторые историки литературы решили, что все это излишне усложняет урок. Так, П.Г. Пустовойт, объясняя учителям новое понимание принципа партийности, заявил: во всех произведениях советской литературы «мы обнаружим… ясность отношения авторов к своим героям» [Пустовойт 1962: 6]. Чуть позднее появится термин «авторская оценка изображаемого», ее станут противопоставлять наивному реализму. «Авторская позиция» постепенно занимала ведущее место в школьном анализе. Напрямую связанная с учительским представлением о морали, с сентиментально-наивной мыслью о «духовной дружбе» учеников с авторами школьной программы, она стала инструментом школьного анализа текста, в корне отличного от научного.
Освободившись внешне от строгости идеологических постулатов, получив право на многообразие и относительную свободу, школа не попыталась вернуться к доидеологической эпохе, к гимназическому курсу литературы. Этот рецепт звучит утопически-нереально, но эпоха шестидесятых пропитана духом утопии. Теоретически разворот к научному изучению литературы был возможен, даже в рамках советской идеологии. Практически шансов на такой разворот не было: советское академическое литературоведение в своих концепциях было идеологически-оценочно и ненаучно. Получив разрешение ослабить пояс идеологии, школа двинулась туда, куда идти было ближе всего, — в сторону дидактики и морализма.
* * *
Брежневская эпоха занялась частными вопросами преподавания литературы.
Подкорректированная и очищенная от прямого идеологизирования «стадиальная теория» продолжала служить стержнем школьного курса. Методистов стали интересовать не общие вопросы искусства и мировоззрения (они, казалось, навеки решены), а способы раскрытия той или иной темы. В середине 1960-х годов ленинградские методисты Т.В. Чирковская и Т.Г. Браже сформулировали принципы «целостного изучения» произведения. Они были направлены против комментированного чтения, которое не обеспечивало анализ композиции и общего замысла произведения. Параллельно учительница Л.Н. Лесохина, разрабатывавшая в оттепельные годы метод урока-диспута, выступила с концепцией «проблемности урока литературы» и «проблемного анализа произведения». Концепция была направлена главным образом против «эмоционализма». Интересно, что на многообразие оттепельных методик нападали именно те, кто в предшествующие годы проявил себя как новатор, способствовавший демократизации учебного процесса. Став к середине шестидесятых кандидатами педагогических наук, получив статус методистов и покинув школу (это касается Браже и Лесохиной, Чирковская защитила кандидатскую диссертацию раньше), эти люди начали работать на унификацию преподавания, создавая новые шаблоны взамен тех, с которыми боролись сами. Идеологический конформизм брежневской эпохи еще недостаточно изучен, но представляется чрезвычайно важным явлением.
Не менее показательно взаимодействие методистов с Министерством просвещения. Вскоре «целостный анализ» объявят неправильным, и Т.Г. Браже, успевшая выпустить трехсотстраничное пособие для учителей, посвященное этому методу, будет активно критиковать его недостатки. А «проблемный анализ» приватизируют эксперты Министерства: они сохранят термин, но изменят его содержание. Под проблемностью будут понимать не животрепещущую проблему, связанную с произведением и актуальную для школьников, а проблематику текста и творчества автора. Все то же «правильное значение».
Школу вновь заставляли жить по инструкции.
В моду входят «системы уроков» по каждой теме программы. Авторы нового учебника М.Г. Качурин и М.А. Шнеерсон с 1971 года публикуют инструкции по планированию учебного года в каждом классе — стыдливо называя их «рекомендациями». Эта деталь хорошо передает стабильность застоя. С начала 1970-х годов до середины 1980-х годов методическая мысль не произведет на свет ни одной концепции. О «проблемности обучения» продолжают писать в первой половине 1980-х годов — точно так же, как и в начале 1970-х. На рубеже 1970-х и 1980-х годов появится проект новой программы (сокращение прежней). Его будут обсуждать в каждом номере «Литературы в школе» за 1979 год. Многословно и без запала, поскольку обсуждать нечего. То же самое можно повторить о концептуальных статьях, касающихся педагогики и преподавания. В 1976 году (№ 3 «Литературы в школе») Н.А. Мещерякова и Л.Я. Гришина высказались «О формировании читательских умений на уроках литературы». Эту статью обсуждают на страницах журнала половину 1976-го и весь 1977 год; в первом номере за 1978 год подводятся итоги дискуссии. Но ее суть передать крайне трудно. Она сводится к значениям термина «читательские умения» и сферам его применения. Вещам схоластическим, не имеющим практического смысла. Так рождается характерное (и во многом заслуженное) отношение к методистам со стороны практикующих учителей: методисты — болтуны и карьеристы; многие из них никогда не вели уроков, остальные забыли, как это делается.

Чуть не половина каждого номера журнала этой эпохи посвящена памятным датам (от 100-летия Ленина до 40-летия Победы, юбилеям писателей школьной программы), а также новым формам привлечения внимания подростков к литературе (особенно много материалов о Всесоюзных праздниках школьников — форма работы, совмещающая литературный клуб со всесоюзным детским туризмом). Из реальной практики преподавания литературы вырисовывается одна актуальная задача: подновление интереса к текстам советской литературы (ни Горький, ни Н. Островский, ни Фадеев не пользуются ученической любовью), а также к идеологемам, которые необходимо артикулировать на уроках. Показательно, что учителю становится все сложнее доказывать ученикам величие «социалистического гуманизма», которое программа требует обсуждать при изучении романа «Разгром»: школьники не могут понять, как убийство партизана Фролова, совершенное врачом с согласия Левинсона, может считаться гуманным.
* * *
Резко меняет весь стиль обучения перестройка, однако эта перемена почти не отразилась в журнале «Литература в школе». Журнал, как и раньше, медленно приспосабливался к переменам: редакторы, воспитанные в брежневскую эпоху, долго раздумывали, что можно печатать, а что нет. Министерство просвещения реагировало на перемены оперативнее. Весной 1988 года учителям литературы разрешили свободно менять формулировки в билетах для выпускного экзамена. По сути, каждый мог написать свои билеты. К 1989 году практика учителей-новаторов, которые стали героями дня — им посвящали телепередачи и публикации в прессе, на их уроки приходило множество гостей, часто непосредственно не связанных со школьным преподаванием литературы, — не была ограничена ничем. Они преподавали по собственным программам; сами решали, какие произведения будут пройдены на уроке, а какие упомянуты в обзорных лекциях, по каким текстам будут писаться сочинения и работы для городских олимпиад. В темах таких работ уже мелькали имена Д.С. Мережковского, А.М. Ремизова, В.В. Набокова, И.А. Бродского.
Вне школы читательскую массу, к которой, разумеется, относились и школьники, захлестнул поток неизвестной ранее литературы: это были произведения из Европы и Америки, ранее не печатавшиеся в СССР; вся литература русской эмиграции, репрессированные советские писатели, запрещенная ранее литература (от «Доктора Живаго» до «Москвы — Петушков»), современная литература эмиграции (Э. Лимонова и А. Зиновьева советские издательства начали издавать в 1990—1991 годах). К 1991 году стало ясно, что сам курс русской литературы XX века, изучавшийся в последнем классе (на тот момент уже одиннадцатом; всеобщий переход от десятилетки к одиннадцатилетке совершился в 1989 году), должен быть радикально перестроен. Внеклассное чтение, которое стало невозможно контролировать, побеждало чтение классное, программное.
Использование идеологем на уроках стало абсурдным
И самое главное: «правильное значение» потеряло правильность. Советские идеологемы в контексте новых идей вызывали только саркастический смех. Использование идеологем на уроках стало абсурдным. Множественность точек зрения на классические произведения стала не просто возможной, но обязательной. Школа получила уникальную возможность двигаться в любую сторону.
Однако учительская масса, подготовленная пединститутами брежневской эпохи, оставалась косной и ориентированной на советскую традицию. Она сопротивлялась изъятию из программы романа «Молодая гвардия» и введению в программу главных перестроечных хитов — «Доктора Живаго» и «Мастера и Маргариты» (показательно, что из Солженицына школа сразу приняла «Матренин двор» — этот текст вписался в представления восьмидесятых о деревенщиках как вершине советской литературы, но до сих пор не принимает «Архипелаг ГУЛАГ»). Сопротивлялась любому изменению традиционного преподавания литературы, вероятно считая, что нарушение сложившегося порядка вещей похоронит сам школьный предмет. Солидарность с учительской массой проявляли и армия методистов, и прочие структуры управления образованием, сложившиеся в советское время (например, Академия педагогических наук СССР, в 1992 году переименованная в Российскую академию образования). Оказавшиеся на развалинах советской идеологии уже не помнили и не понимали, как преподавать литературу по-другому.

Сказался и массовый исход из страны (в том числе и лучших учителей) в первой половине 1990-х годов. Сказалась крайне невысокая оплата труда в школе в 1990-е и 2000-е годы. Учителя-новаторы как-то растворились в общем контексте эпохи, тон молодой российской школе задавали учителя пенсионного возраста, сформировавшиеся и много лет проработавшие при советских порядках. А крайне немногочисленная молодая смена воспитывалась теми же теоретиками-методистами из педагогических университетов, которые раньше готовили кадры для советской школы. Так легко осуществилась «связь времен»: не создав внятного запроса на перемену всей системы преподавания, учителя литературы ограничились косметической чисткой программ и методик от элементов, явно отдающих советской идеологией. И на этом остановились.
Школьная программа по литературе в 2017 году мало отличается от программы 1991 года
Показательно, что последний советский учебник по литературе XIX века (М.Г. Качурин и другие), впервые вышедший в 1969 году и служивший обязательным учебником для всех школ РСФСР до 1991 года, регулярно переиздавался в 1990-е годы и последний раз был выпущен уже в конце 2000-х годов. Не менее показательно, что школьная программа по литературе в 2017 году (и список произведений для ЕГЭ по литературе) мало отличается от программы (и списка произведений для выпускного экзамена) 1991 года. В ней почти полностью отсутствует русская литература XX века, а классическая русская литература представлена теми же именами и произведениями, что в шестидесятые–семидесятые годы. Советская власть (для удобства идеологии) стремилась ограничить знания советского человека узким кругом имен и небольшим набором произведений (как правило, имеющих отклики «прогрессивных критиков» и, тем самым, прошедших идеологический отбор) — в новых условиях следовало ориентироваться не на идеологические цели, а на цели образования и, в первую очередь, радикально перестроить программу 9–10-х классов. Например, включить в нее романтические повести А.А. Бестужева-Марлинского, славянофильские стихи Ф.И. Тютчева, драматургию и баллады А.К. Толстого вместе с произведениями Козьмы Пруткова, в параллель к тургеневскому роману (не обязательно «Отцам и детям») читать «Тысячу душ» А.Ф. Писемского, добавить к «Преступлению и наказанию» «Бесов» или «Братьев Карамазовых», а к «Войне и миру» позднего Толстого, пересмотреть круг изучаемых произведений А.П. Чехова. А самое главное — предоставить школьнику возможность выбора: например, разрешить прочитать два любых романа Достоевского. Ничего этого постсоветская школа не проделала до сих пор. Она предпочитает ограничиться списком из полутора десятков классиков и полутора десятков произведений, не обучая ни истории литературы, ни истории идей в России, ни даже искусству чтения, а вкладывая в сознание современных школьников давно остывшие заветы. Освобожденное от идеологии обучение литературе могло бы стать ментальным антидотом для постсоветской России. Мы откладываем это решение более 25 лет.
Библиография
[Благой 1961] — Благой Д.Д. О целях, задачах, программе и методике преподавания литературы в IX—XI классах // Литература в школе. 1961. № 1. С. 31—41.
[Герасимова 1965] — Герасимова Л.С. Восприятие поэмы «Мертвые души» девятиклассниками // Литература в школе. 1965. № 6. С. 38—43.
[Глаголев 1939] — Глаголев Н.А. Воспитание нового человека — основная наша задача // Литература в школе. 1939. № 3. С. 1—6.
[Денисенко 1939] — Денисенко З.К. О развитии творчества учащихся // Литература в школе. 1939. № 6. С. 23—38.
[Калинин 1938] — Речь товарища М.И. Калинина на совещании учителей-отличников городских и сельских школ, созванном редакцией «Учительской газеты» 28 декабря 1938 г. // Литература в школе. 1939. № 1. C. 1—12.
[Кириллов 1955] — Кириллов М.И. Об использовании художественного текста в сочинениях логического типа // Литература в школе. 1955. № 1. С. 51—54.
[Кленицкая 1958] — Кленицкая И.Я. Как добиться эмоционального восприятия образа героя учащимися // Литература в школе. 1958. № 3. С. 24—32.
[Колокольцев, Бочаров 1953] — Колокольцев Н.В., Бочаров Г.К. Изучение стихотворения Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» // Литература в школе. 1953. № 1. С. 32—37.
[Кочерина 1956] — Кочерина М.Д. Как мы работаем // Литература в школе. 1956. № 2. С. 28—32.
[Кочерина 1962] — Кочерина М.Д. Уроки комментированного чтения пьесы «Вишневый сад» // Литература в школе. 1962. № 6. С. 37—48.
[Кудряшев 1956] — Кудряшев Н.И. О состоянии и задачах методики литературы // Литература в школе. 1956. № 3. С. 59—71.
[Литвинов 1937] — Литвинов В.В. Чтение художественного текста на уроках литературы // Литература в школе. 1937. № 2. С. 76—87.
[Литвинов 1938] — Литвинов В.В. Биография писателя в школьном изучении // Литература в школе. 1938. № 6. С. 80—84.
[Любимов 1951] — Любимов В.Д. О знаниях выпускников средних школ Москвы // Литература в школе. 1951. № 1. С. 52—59.
[Любимов 1958] — Любимов В.Д. Учитель литературы // Литература в школе. 1958. № 6. С. 19—28.
[Мирский 1936] — Мирский Л.С. Вопросы методики сочинений на литературные темы // Литература в школе. 1936. № 4. С. 90—99.
[Митекин 1953] — Митекин Б.П. Читательская конференция по книге И. Багмута «Счастливый день суворовца Криничного» // Литература в школе. 1953. № 3. С. 57—59.
[Новоселова 1956] — Новоселова В.С. О художественной литературе и учителе-словеснике // Литература в школе. 1956. № 2. С. 39—41.
[Пахаревский 1939] — Пахаревский Л.И. О тематике сочинений в VIII—X классах // Литература в школе. 1939. № 6. С. 63—64.
[Пономарев 2014] — Пономарев Е.Р. Общие места литературной классики. Учебник брежневской эпохи разрушился изнутри // НЛО. 2014. № 2 (126). С. 154—181.
[Пустовойт 1962] — Пустовойт П. В.И. Ленин о партийности литературы // Литература в школе. 1962. № 2. С. 3—7.
[Романовский 1947] — Романовский А.П. Из практики идейно-воспитательной работы на уроках литературы // Литература в школе. 1947. № 6. С. 44—49.
[Романовский 1953] — Романовский А.П. Стиль сочинений на аттестат зрелости // Литература в школе. 1953. № 1. С. 38—45.
[Романовский 1961] — Романовский А.П. Какими должны быть сочинения в старших классах? (ответы на вопросы анкеты) // Литература в школе. 1961. № 5. С. 59.
[Cазонова 1939] — Cазонова М.М. О воспитании советского патриотизма // Литература в школе. 1939. № 3. С. 73—74.
[Самойлович 1939] — Самойлович С.И. Произведения Н.А. Некрасова в V классе // Литература в школе. 1939. № 1. С. 90—101.
[Смирнов 1952] — Смирнов С.А. Как работать в VIII классе над темой «Н.В. Гоголь» // Литература в школе. 1952. № 1. С. 55—69.
[Трифонов 1952] — Трифонов Н.А. Изучение романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия» в VII классе // Литература в школе. 1952. № 5. С. 31—42.
[Фейн 1962] — Фейн Г.Н. Научить читать — главная задача преподавания литературы в школе // Литература в школе. 1962. № 3. С. 61—64.
[Юдалевич 1953] — Юдалевич К.С. Как мы работали над «Повестью о Зое и Шуре» на внеклассных занятиях // Литература в школе. 1953. № 1. С. 63—68.
Евгений Пономарев,
доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры, доктор филологических наук
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Навигация
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса