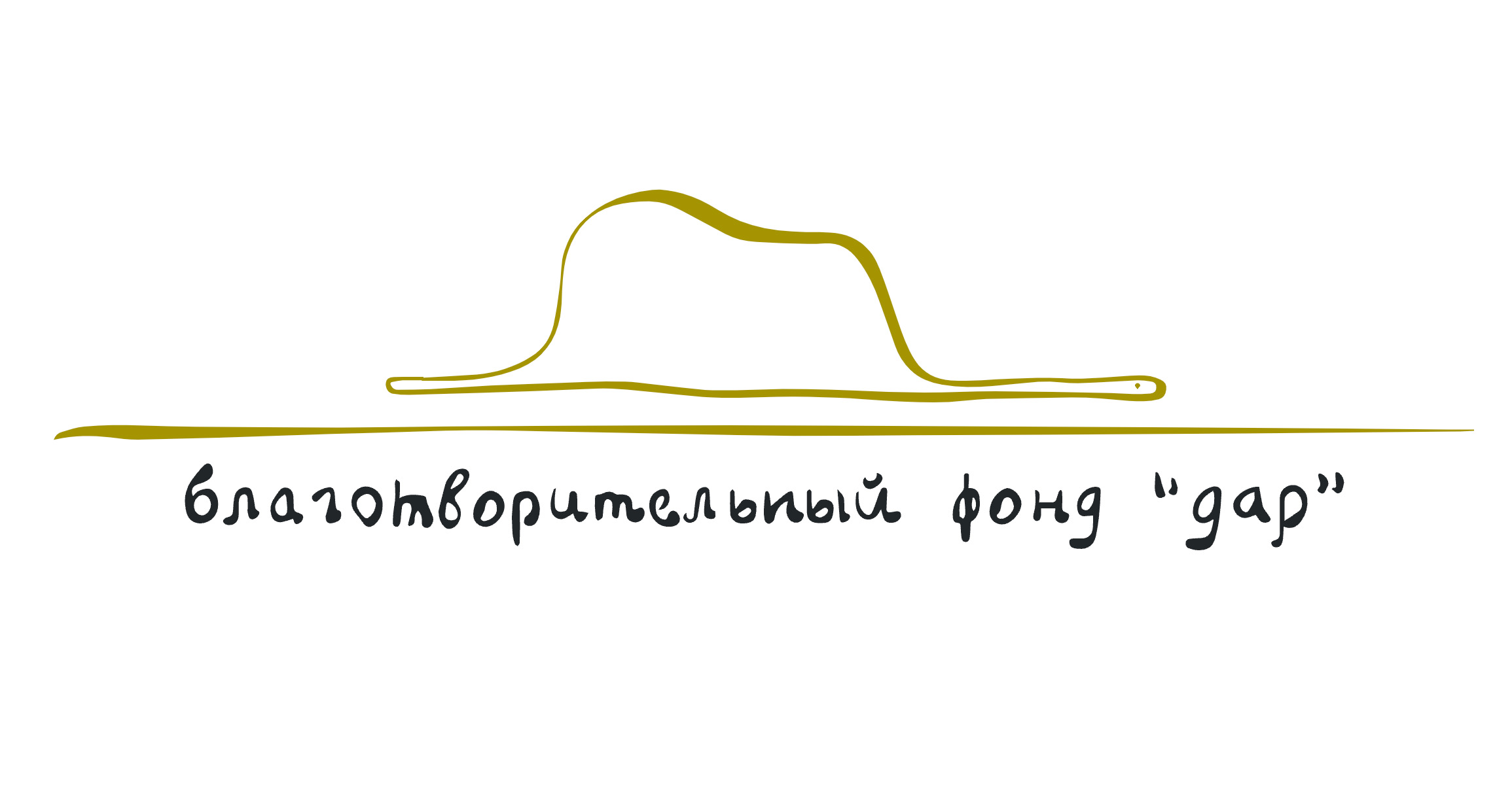Агата Гилман. Стихотворение А.С. Кушнера «Посещение» в диалоге с литературной традицией
Введение
Целью нашего исследования является попытка осмысления картины мира, которую А.С. Кушнер выстраивает в своём стихотворении «Посещение». Эта картина мира строится, во многом, на диалоге с предшествующей литературной традицией (о чём говорит уже первая строка, подчёркнуто цитатная), поэтому исходя из поставленной цели мы сформулировали следующие задачи:
- анализ жанровой природы, художественного пространства и времени в стихотворении А.С. Пушкина «Вновь я посетил…»;
- анализ стихотворения А.С. Кушнера «Посещение» в следующих аспектах: лирический субъект и его точка зрения, композиция лирического сюжета, пространство-временная организация, жанровые особенности (в сравнении с литературной традицией жанра элегии);
- сопоставление стихотворений Кушнера и Пушкина.
Объект исследования – диалог А.С. Кушнера с литературной традицией в стихотворении «Посещение». Предметом исследования является поэтически воплощённое в стихотворении «Посещение» мировоззрение А.С. Кушнера в его соотнесении с пушкинским «Вновь я посетил…».
Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью творчества А.С. Кушнера в контексте поэтической традиции. На примере этой поэтической традиции можно увидеть, как современники трагического XX века осмысляют себя в контексте эпохи, как они создают образ времени. Это, в свою очередь, позволяет уяснить закономерности культурного развития XX века, открывающее многое и в нас самих. Анализ диалога современного поэта с традицией – это путь современного читателя к открытию традиции.
Глава 1. «…Вновь я посетил…» А.С. Пушкина: элегический хронотоп и пространство воскрешающей памяти
В стихотворении А.С. Пушкина «…Вновь я посетил» (1835) создаётся новый вид элегии, в котором главенствуют не тоска, уныние и разрушение[1], а воскресающая, оживляющая сила любви и памяти, кайрос (время «счастливого мгновения»[2]). Это стихотворение написано после «Запустения» Е.А. Боратынского (1832) и является одним из первых элегических стихотворений в русской литературе, посвященных возвращению человека в пространство дома, пространство, любимое им, которое изменилось с течением времени.
В своем стихотворении Пушкин воскрешает тот мир, к которому он когда-то был причастен и который им любим. Памятью и любовью он в своей элегии оживляет «тот уголок земли»[3] (уменьшительно-ласкательный суффикс «-ок» показывает любовь и трепетное отношение, умиление лирического героя по отношению к этому месту), «опальный домик» (такова же художественная функция суффикса «-ик»). Подобно тому, как память и поэзия преодолевают время, читатель и через столетия может услышать шаги Арины Родионовны - няни Пушкина (они слышны и благодаря шипящей аллитерации): «не слышу я шагов ее тяжелых» или шум тех самых трех сосен: «Я проезжал верхом при свете лунном, / Знакомым шумом шорох их вершин / Меня приветствовал.”
В стихотворении «Вновь я посетил…» Пушкин создает образ светлой жизни, хотя биографический контекст этому, казалось бы, противоречит: 1835 год был тяжёлым в жизни поэта, гнусные слежки, подозрения и подлость начальника III отделения Бенкендорфа, наветы Булгарина – всё это стало разрушать мир поэта, вторгаться в самое важное и неприкосновенное для Пушкина—Семью и Дом[4]. Ю.М.Лотман пишет об этом так: «Он вступал в безнадежную и героическую борьбу с окружающим миром, пытаясь его одухотворить, расшевелить, передать ему свою жизненность,-- и вновь и вновь встречал не горячее рукопожатие, а холодную руку мертвеца»[5]. И вот в 1835 году Пушкин едет в Михайловское, «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», возвращаясь в пространство Дома, спустя десять лет после ссылки, проведенной им там же…
«Два года незаметных», которые Пушкин провел в северной ссылке, совершенно не кажутся линейным, разрушающим временем. «Холм лесистый» и озера, тихая жизнь «владений дедовских» – всё это приметы, напоминающие нам об идиллическом хронотопе с его циклическим временем, неподвластным разрушению[6]. «Десять лет», минувших с тех пор, наоборот, кажутся «всеистребляющим временем»[7], которое все искажает, изменяет и разрушает. Но когда Пушкин оказывается в своем родном уголке земли, благодаря чудесному свойству памяти для него здесь снова все оживает и образуется пространство, состоящее одновременно из прошлого и настоящего. Для лирического героя каждая маленькая деталь, сохранившаяся в настоящем, открывает дверь в прошлое, становится частью памяти. Это прослеживается, в частности, в глаголах: «переменился я, но здесь опять минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вечор еще бродил я в этих рощах». Для символического соединения времен в одном предложении поэт использует глаголы разного времени и вида: «переменился (сов. в) я, но здесь опять минувшее меня объемлет (несов. в.) живо, и, кажется, вечор еще бродил (несов. в) я в этих рощах»; «вот опальный домик (настоящее время), где жил (прошедшее время) я с бедной нянею моей»; «вот холм лесистый (настоящее время), над которым часто я сиживал, недвижим, - и глядел на озеро, воспоминая с грустью иные берега, иные волны (прошедшее время)». Удивительное ощущение соединения времён создаётся и в строке «Минувшее меня объемлет живо»: минувшее, которого давно нет, может в настоящем времени обнимать.
Стоит остановиться на интертекстуальном плане художественной ткани стихотворения Пушкина.[8] «Иные волны», возможно, являются воспоминанием о южной ссылке (отметим попутно, как в этих словах переплетаются смысловые пространства поэзии, природы и памяти: повтор слова «иные» уподобляется ритму волн и всплывающим в сознании лирического героя воспоминаниям). Строка «где плывет рыбак и тянет за собой убогий невод», похоже, отсылает нас к «Медному всаднику»:
…Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхой невод…
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко…
– эти строки подобны былинному или сказочному зачину (инициальным формулам сказки), в котором задаётся символика пересечения границ между мирами («граница владений», «дорога, изрытая дождями», соединяющая в себе культурное, ухоженное и природное, дикое). Здесь же, вместе с упоминанием «границ владений дедовских» впервые звучит тема связи поколений и общего бытия, связывающего людей в разные времена. А эта связь поколений и является для Пушкина историей, которая так важна была для него в михайловской ссылке.
Хронотоп Михайловского соединяет в себе природу и личную судьбу человека, прошлое, настоящее и – в этом, как кажется, пушкинское открытие – будущее. Кусты, рощи, старые деревья олицетворяют естественный ход времени, смену поколений, уход и смерть, с одной стороны, но и рождение, и жизнь – с другой.
…не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего.
Пушкин выходит за пределы воспоминаний, оказывается способным видеть будущее. В этих строках – способность самоустраниться и печаль, но спокойная и принимающая.
Пространство природы позволяет протянуть нить в будущее:
Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.
Пушкин вспоминает своих дедов и думает о своем внуке, так связь времён окончательно замыкается, «вновь я посетил» (о лирическом герое) в начале перекликается с «возвращаясь» (о его внуке) в конце. У читателя создаётся ощущение незаконченности стихотворения: не закончен путь лирического героя по Михайловскому, вырвано мгновение из жизни внука. За этой смысловой открытостью финала стоит открытость и читательским ассоциациям. Финал «Вновь я посетил» даёт возможность вспомнить стихотворение «Памятник», написанное через год. Это место, шорох и сосны – тоже своего нерукотворный памятник, который заставит внука помянуть деда.
Стоит отметить, что подобная организация художественного времени в элегическом хронотопе характерна для Пушкина. «…таким образом элегия оказывается построенной на том, что перед читателем трижды проходят одни и те же воспоминания – сперва как «прошедшее в настоящем», потом как «прошедшее в настоящем на грани будущего», потом как «прошедшее в настоящем на грани прошлого». И этих малых сдвигов ракурса достаточно, чтобы избежать монотонности и получить, так сказать, стереоскопическое ощущение элегической темы. Такова поэтика «совмещающей» элегии»; «Если прошлое, вставленное в рамку настоящего или будущего, есть воспоминание, то будущее, вставленное в рамку настоящего или прошлого, есть ожидание», – пишет Гаспаров о сходном приеме в элегии Пушкина «Погасло дневное светило»[9].
Глава 2. «Посещение» А.С.Кушнера в диалоге с поэтической традицией
Стихотворение А.С.Кушнера «Посещение», обычно входящее в раздел «Семидесятые годы» сборников автора, представляет собой попытку приобщения лирического героя к поэтическому опыту Пушкина и всех тех писателей, которые следовали этой традиции. При этом кушнеровская строка «Элегии чужды привычкам нашим»[10] содержит внутреннее противоречие или парадокс, часто используемый Кушнером способ выстраивания мысли или метафоры. Поэт утверждает, что не пишет элегию, тогда как получается у него элегия. Более того, стихотворение Кушнера во многом строится на прямых отсылках к пушкинской элегии и элегической традиции, им начатой.
Нам кажется важным привести слова исследователя элегии В. И. Козлова, описывающего механизмы жанрового наследования: «Таких примеров, показывающих, что «хоронить» жанровую форму стоит очень осторожно, можно приводить достаточно. По большому счёту, они наводят на мысль о том, что жанровая эволюция — процесс нелинейный, что возрождение любой, казалось бы, забытой жанровой модели может начаться в любой момент — достаточно появиться поэту, в котором что-то на неё откликнется. Именно поэтому мне было более важно показать жанровый арсенал русской элегии и прочертить — где возможно, подробно, а где-то пунктиром — линию, которая показывала бы главное: жанровая модель не исчезает, она переходит из эпохи в эпоху, меняясь, но — не теряя стержня. И сами эти приобщения к жанровым традициям авторами осуществляются далеко не всегда сознательно. Есть масса примеров, показывающих, что именно там, где автор считает нужным отослать к жанровой традиции, он либо ошибается, либо играет с читателем, нарочно предлагая ему под именем знакомого блюда то, что тот менее всего ожидает попробовать… Жанровая система, выражаясь образно, это не чемодан, который поэт может брать или не брать в свой творческий путь, — это литературное пространство, в котором работает каждый поэт. Вне пространства жанровой системы поэта не существует. Однако «лицо», архитектонику, иерархию этой системы определяет именно поэт. По причине такой взаимозависимости поэт не может быть «безразличен» к жанровой системе и не иметь с ней отношений»[11].
Лирический герой в диалоге со временем
Основной сюжет стихотворения заключается в мучительной рефлексии возможности и одновременно невозможности встречи с собственным прошлым. Отталкиваясь от очевидной реминисценции на пушкинские строки («Я тоже посетил…»), лирический герой начинает сомневаться в возможности гармоничного диалога с настоящим и переживания опыта утраты прошлого (и себя в нем). В отличие от Пушкина, в элегии которого уголок земли сохранен, узнаваем и позволяет перенестись в прошлое (в единое пространство памяти), Кушнер, напротив, жалуется на полную неузнаваемость окружающего мира и на отсутствие необходимых для соединения с прошлым и для узнавания примет:
Узнать ее нет сил.
Я потерял к ней ключ.
Там не было такой
Ложбины, и перил
Березовых, и круч —
Их вид меня смутил.
Так вот оно что! Нет
Той топи и цветов,
И никаких примет,
И никаких следов.
И молодости след
Растаял и простыл.
Кушнер не просто видит разрушенную местность, но ощущает распад связей во вселенском масштабе, он говорит не только о физических объектах, но и культуре, о практиках повседневности. Маленькие детали детской жизни и быта наполнены огромным смыслом. Кушнер доводит метафору «уголка земли» до планетарной Земли, да и до всего совокупного мира:
О, кто за двадцать лет
Нам землю подменил?
Неузнаваем лик
Земли — и грустно так,
Как будто сполз ледник
И слой нарос на слой.
А фильмов тех и книг
Чудовищный костяк!
А детский твой дневник,
Ушедший в мезозой!
Земля здесь – метафора человеческой жизни, индивидуальной истории, неумолимо заканчивающейся, уходящей. Временную перспективу расширяет метафорические ряды: «детский твой дневник, ушедший мезозой», «крокодил» и «диплодок» - соединяются детали предметного мира детства и образность, связанная с палеонтологией или геологией («ледник», «мезозой», «диплодок», «киркой наткнёшься на скелет», а «Крокодил» – еще и сатирический журнал из советского детства героя). Детали и осколки личного прошлого формируют культурные слои глобальной истории, благодаря чему детство наделяется общеисторическим масштабом, и одновременно отдаляется от лирического субъекта. Кирка – орудие труда археолога или геолога, Кушнер становится археологом собственной жизни, жизни мира, которого уже нет, раскапывая элегией, как киркой, «скелет той жизни и вражды»:
Элегии чужды
Привычкам нашим, — нам
И нет прямой нужды
Раскапывать весь хлам,
Ушедший на покой,
И собирать тех лет
Подробности: киркой
Наткнешься на скелет
Той жизни и вражды.
Лирический герой даёт себе отчет в том, что прежняя жизнь утрачена, но он дорожит ею, и мысль о необратимости ухода и распада привычного уклада и мира доставляет ему боль:
Но, может быть, всего
Ужасней был бы вид
Для нас как раз того,
Чем сердце дорожит.
Поэт прямо обращается к себе прошлому:
Есть карточка, где ты
С подругой давних лет
Любителем заснят –
и понимает: произошедшие изменения настолько грандиозны, что того, прошлого человека Кушнер уже не может назвать «Я». Он одновременно рассматривает детали прошлого и отстраняется от увиденного – и вводя временной масштаба палеонтологического размаха, и обращаясь к себе самому «ты». Впрочем, обращение «ты» адресовано одновременно и читателю строк, то есть любому из нас. Местоимение «ты» обретает подчёркнутую неоднозначность: оно и обращение к самому себе настоящему, и воспоминание о себе в прошлом, и обращение к окружающему пространству, и обращение к читателю). Лирический субъект одновременно и погружается в мир вокруг (и реальное пространство превращается в пространство памяти), и отстраняется от него, как будто наблюдая за миром извне.
Поэт понимает и подчеркивает недостижимость того прошлого, о котором он тоскует, называя его «раем». Отчасти это архетипический рай детства, но не только. Речь идет и об утраченных друзьях, возлюбленных… Особо горько звучит «но, видимо, забыл» (косвенно отсылая к душераздирающему «но в мире новом друг друга они не узнали»), взрослый лирический герой как будто слегка упрекает себя молодого за то, что не осознавал прелести своего рая, теперь уже утраченного, не ценил ее:
Туманней, чем тот свет.
Бледней, чем райский сад.
Там видно колею,
Что сильный дождь размыл.
Так вот — ты был в раю,
Но, видимо, забыл.
Когда Кушнер обращается к «Исповеди» Руссо, метафора времени становится многослойной. С одной стороны, книга приравнивается к «уголку земли» с кустами-смыслами (одним из таких смыслов, осознанных/выращенных Кушнером является более личное и близкое восприятие «исповеди», приращения к нему новых смыслов и создание связей, Руссо-Толстой), с другой – она символизирует самого автора, безвозвратно изменившегося и продолжающего меняться, с третьей – жизнь, размываемую временем. К тому же сама элегия – тоже исповедь. Кушнер обращается то ли к Руссо, то ли к обобщенному Создателю (автору всего) с ироническим вопросом: «скажи, знаток людей, ты вклеил, приписал?» И сразу же сам себе отвечает: «Но ровен блеск полей и незаметен клей».
Я "Исповедь" Руссо
Как раз перечитал.
Так буйно заросло
Всё новым смыслом в ней,
Что книги не узнал,
Страниц ее, частей.
Как много новых лиц!
Завистников, певиц,
Распутниц, надувал.
Скажи, знаток людей,
Ты вклеил, приписал?
Но ровен блеск полей
И незаметен клей.
А есть среди страниц
Такие, что вполне
Быть вписаны могли
Толстым, в другой стране,
Где снег и ковыли.
И опять Кушнер возвращается к строке «я тоже посетил», здесь уже звучат горечь и упрек в адрес человека, разрушающего не только болота и реки, но и целые города с их культурой. Одновременно лирический герой приравнивает утрату Арбата к утрате прошлой любви, уничтожение каменных наяд, берегов и ручьев – к подрыву тыла личности. Кушнер горюет об уходящем, говорит об ужасе утраты иллюзий.
Я тоже посетил…
Наверное, в наш век
Меняются скорей
Черты болот и рек;
Смотри: подорван тыл.
Обвал души твоей.
Не в силах человек
Замедлить жесткий бег
Лужаек и корней.
Я вспомнил москвичей,
Жалеющих Арбат.
Но берег и ручей
Тех улиц не прочней
И каменных наяд.
Кто б думал, что пейзаж
Проходит, как любовь,
Как юность, как мираж, —
Он видит ужас наш
И вскинутую бровь.
Интересно, что и здесь призыв «смотри» как будто бы обращен ко многим объектам сразу: и к молодому, прежнему лирический герой, который жил в раю, не отдавая себе отчета в том, и к себе в настоящем, и к читателю, - что подчеркивает универсальность опыта, осмысляемого в стихотворении.
Разрушение личного прошлого и разрушение жанра
Поэт говорит не только о личной драме примирения с необратимостью хода времени, утраты прошлого, распада юношеской идиллии, но и о трагедии новой эпохи в культурно- историческом смысле. Здесь видится даже скрытое сравнение эпох («наверное, в наш век…») – пушкинской, времени расцвета элегического жанра, и советской, когда люди сознательно уничтожали память и прошлое предавалось забвению. Лирический герой Кушнера теряет надежду на возможность обрести гармонию с миром.
У Пушкина мотивы разрушения и уничтожения скудны, есть только описание скривившихся мельниц, Кушнер же наоборот, осмысляя разрушения, испытывает не пушкинскую щемящую грусть, а ужас и страх («Он видит ужас наш и вскинутую бровь»). Кушнер «тоже посетил» заветный уголок земли, но, в отличие от Пушкина, не нашел там своего опального домика. Да и не мог найти. Александр Кушнер известен своим чрезвычайно острым и трезвым восприятием жестокого «нового века», в котором жил его лирический герой. В этом смысле с «Прощанием», с нашей точки зрения, отчасти перекликается «Разговор в прихожей» (1978), лирический герой которого (в споре фактически с самим собой) в принципе подвергает сомнению уместность и адекватность классического поэтического подхода в новейшей истории:
По-моему, век наш, направо губя
людей и налево, от Дантова ада
наш взор отвратил: зарывали и жгли
и мыслимых мук превзошли варианты… –
Опомнюсь. Мы что, подобрать не могли
просторнее места для спора о Данте?
Для Кушнера разрушение (и естественное, и антропогенное) природы символизирует одновременно и разрушение культуры. Поэт вводит образ местности как музея, который изнашивается, распадается или даже уничтожается (как, например, памятники городской культуры, к числу которых относится и ностальгический помянутый поэтом Арбат):
Мемориальных букв,
На белом — золотых,
Экскурсоводок-бук,
Жующих черствый стих,
Не видно. Молочай
Охраны старины
Не ведает. Прощай!
Тут нашей нет вины.
Хотя лирический субъект и сочувствует москвичам, жалеющим свой Арбат, он все же призывает к стоическому и отчасти даже смиренному восприятию перемен («прощай! Тут нашей нет вины»), которым человек не в силах воспротивиться[12].
Не исключено, что такое отношение становится возможным для лирического субъекта, потому что он ищет и, в конечном счете, находит свой способ примирения – он размышляет о привлекательности смерти как способа побега от изменившейся и изменившей ему реальности, от горечи утраты:
Быть может, умереть —
Прийти к себе домой,
Не зажигая свет,
Не зацепив ногой
Ни стол, ни табурет.
Смеркается. Друзей
Всё меньше. Счастлив тем,
Что жил, при грусти всей,
Не делая проблем
Из разности слепой
Меж кем-то и собой,
Настолько был важней
Знак общности людей,
Доставшийся еще
От довоенных дней
И нынешних старух,
Что шли, к плечу плечо,
В футболках и трусах,
Под липким кумачом,
С гирляндами в руках.
О тополиный пух
И меди тяжкий взмах!
Ведь детство — это слух
И зренье, а не страх.
Квартира, в которую лирический субъект планирует совершить побег, где он планирует ускользнуть от своей печали, «не зажигая свет, не зацепив ногой ни стол, ни табурет», – это последний подвластный ему приют, тыл, сжавшийся до размеров комнаты. Рая больше нет, утрачены любови, друзья, более того – утрачен смысл. Как социальный, так и антропологический – и общность парада физкультурников, и липкий кумач с тяжкой медью, и детство без страха. При этом появляется архетипический образ детства как рая, закрытый для него внутренней борьбой: герой «видимо, забыл» рай детства, но одновременно о нём пишет, а значит, помнит.
Вся элегия – прощание с потерянным раем, как бы неоднозначно ни относился к нему поэт, который, безусловно, не только идеализирует детство, но и отдает себе отчет в довольно страшных приметах времени, его сопровождавших. Можно даже предположить, что лирический герой стремится вернуться именно в то, очищенное от страха и бремени сегодняшних мудрости и печали, детство. Аллитерация «продрался напролом» указывает на неимоверное усилие, предпринимаемое лирическим героем в последней попытке найти исчезнувший луг (который, в конечном счете, становится символом рая). Он обращается одновременно и к Лугу, и к Раю, и к себе. Автор одушевляет и луг, приписывая ему человеческие чувства, мысли и даже поведение («ты думал удивить набором перемен», «давай и мы уйдем легко, как он ушел», «он видит ужас наш»).
Лирический герой видит и оплакивает изменения, приведшие к утрате луга (рая), но тот остается равнодушным («Но мокрые кусты не знают, с чем сличить отцветшие черты, поблекший облик твой, сентиментальных сцен стыдятся, им что ты, должно быть, что любой»). Мир прошлого отдаляется: «туманней, чем тот свет, / Бледней, чем райский сад». В финале стихотворения становится понятно, что лирический герой не хочет жить без рая, он уже решил сбежать (умереть), и приходит с ним попрощаться, хотя раю это безразлично. Герой смиряется с неизбежностью «общего закона». Уходя, оглядывая луг/рай, поэт говорит себе сегодняшнему, себе прошлому и нам-читателям:
И знаешь, даже рад
Я этому: наш мир —
Не заповедник; склад
Его изменчив; дыр
Не залатать; зато
Новехонек для тех,
Кто вытащил в лото
Свой номер позже нас,
Чей шепоток и смех
Ты[13] слышишь в поздний час.
Уход, затихание видны в аллитерации в последних двух строках стихотворения: «Чей шепоток и смех ты слышишь в поздний час». Именно в этот момент и лирический герой, и поэт, и читатель переживают своеобразный катарсис: как и Пушкин, Кушнер тоже обращается к «племени младому, незнакомому», к тем, «кто вытащил в лото свой номер позже нас». Примирение со смертью и с необходимостью (буквально не --обходимостью) общего закона возможно лишь с осознанием того, что нет жизни без смерти. Лирический герой, уже догадавшийся о способе освобождения от груза печали, принимает безразличие и равнодушие времени.
Заключение
В заключении приведём основные выводы нашего исследования.
- А.С.Пушкин в стихотворении “Вновь я посетил” создаёт особую элегическую ситуацию: в размышлениях о прошлом лирический герой не оплакивает его, а принимает общий закон времени; при этом осознавая естественность этого процесса. Поэтому в художественной ткани стихотворения соединяются прошлое, настоящее и будущее в пространстве любви и памяти.
- А.С.Кушнер продолжает “разговор”, начатый в стихотворении А.С.Пушкина “Вновь я посетил…” (стихотворение начинается многоточием, а заканчивается неполной строкой, будто бы ждёт своего продолжения).
- Временная структура стихотворения строится на многослойных метафорах. Лирический герой принимает многозначность времени: время – это и идиллическое пространство воспоминаний, и безразличная и равнодушная сила. В этом проявляется стоицизм, который характерен для кушнеровского лирического героя.
- Стихотворение “Посещение” строится на многочисленных внутренних противоречиях: Кушнер отрицает потребность человека в воспоминании, но не может противиться этой потребности; Кушнер одновременно рассматривает детали прошлого и отстраняется от увиденного. Благодаря этому в стихотворении Кушнера диалог с традицией имеет характер отчасти игровой.
- Эмоциональный фон стихотворения Кушнера – ужас и страх, что создаётся благодаря многочисленным мотивам разрушения, которых у Пушкина почти нет.
- Пушкин намеренно уменьшает дистанцию между собой и прошлым, лирический же герой Кушнера увеличивает эту дистанцию. Этот эффект создаётся благодаря многочисленным метафорам времени (в работе они проанализированы подробно), а также благодаря особой структуре автокоммуникации (изменения, произошедшие со временем, настолько значимы, что лирический герой уже не может называть себя в прошлом “я”).
- Стихотворение Кушнера – прощание с потерянным раем прошлого; и в этом явное отличие кушнеровского стихотворения и мировоззрения от Пушкина. В итоге Кушнер принимает тот же самый “общий” закон, о котором писал Пушкин, принимает безразличие времени к человеку и миру.
Как и любое исследование, посвящённое анализу сложного, многослойного художественного текста, наша работа открывает новые перспективы для дальнейших изысканий. Сделанные нами наблюдения и выводы – лишь малая часть того, что можно увидеть в конкретном тексте, в поэтике Кушнера, в сложном феномене элегии нового времени.
На наш взгляд, нуждается в более подробном анализе исторический контекст кушнеровского стихотворения. Достойны отдельного внимания и те уровни организации художественного текста, которые не были освещены в нашей работе: уровни ритмики, синтаксиса, композиции грамматических и морфологических категорий. Хотелось бы более углубленно разобрать, как поэты 20 века интерпретируют и используют определенные образы или традиции, скажем, пушкинского времени, как благодаря поэзии и ее вневременным мотивам соединяются эпохи, люди.
Список использованных источников и научной литературы
- Барт Р.Текст (теория текста) // Encyclopaediauniversalis. 1973. http://abuss.narod.ru/Biblio/piegegro.htm
- Бродский И. Об Александре Кушнере // Александр Кушнер: В честь присуждения Российской национальной премии «Поэт» 2005 года. – М.: Время, 2005. http://www.poet-premium.ru/laureaty/kushner_buklet.pdf
- Гаспаров М. Л. Три типа русской романтической элегии // Гаспаров М. Л. Избранные труды. – Т. 1. О поэтах. – М.: Языки русской культуры, 1997.
- Гоголь Н. В. Старосветские помещики. Миргород. – М.: Художественная литература, 1984.
- Грехнев В. А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров». – Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1985.
- И третье, видимо, нельзя тысячелетьеПредставить с ямбами, зачем они ему?..: Корреспондент газеты «Литература» Римма Храмцова беседует с поэтом Александром Кушнером // Литература. – 2005. – № 7. http://lit.1september.ru/article.php?ID=200500711
- Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. — М.: Языки славянской культуры, 2013.
- Кушнер А. С. Стихотворения. – Л.: Художественная литература, Ленинградское отделение, 1986.
- Лотман Ю. М. А.С. Пушкин: Биография писателя. Л.: Просвещение, 1981.
- Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. – М.: Издательство Кулагиной – Intrada, 2008
- Пушкин А.С. Собрание сочинений. – М.: Художественная литература, 1986. – Т. 1.
- Тиллих П. Кайрос //
[1] «ЭЛЕГИЯ <…> - лирическое стихотворение медитативного характера с устойчивыми тематическими и мотивными комплексами, эмоциональной тональностью («уныние», «меланхолия», «печаль», «разочарование») и стилистикой. В основе элегической тематики лежит переживание безвозвратно уходящего времени, уносящего молодость, надежды, мечты, любовь, жизнь и разрушающего ценности и идеалы. Пространственно-временная модель Э. (элегический хронотоп) предполагает фиксацию разрыва между двумя типами переживания времени <…>, между идиллическим и индивидуальным временем. < …> 1800-1830-х гг. обращает на себя внимание повторяющийся у разных авторов тематический ход: «осеннее увядание в природе сменится весенним возрождением, но для меня возрождение невозможно» (Магомедова Д. М. Элегия // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008).
[2] Тонкое языковое чутье заставило греков обозначить хронос, "формальное время", словом, отличным от кайрос, "подлинное время", момент, исполненный содержания и смысла. И не случайно, что слово "кайрос" обрело глубину смысла и стало столь часто употребимым, когда греческий язык стал сосудом, который вместил динамический дух иудаизма и раннего христианства, в Новом Завете. "Мое время еще не настало", - было сказано Иисусом (Иоан. 7, 6), и затем оно пришло: это - кайрос, момент полноты времени. <…>В разные времена мир находится во власти различных космических сил, но Господь владычествует над всеми в исполненное драматизма время между Воскресением и Вторым Пришествием, - в "настоящее время", которое по своей сути отлично от любого другого времени в прошлом. В этом драматическом сознании истории коренится идея кайроса, и из этого начала она будет преобразована в понятие, которое будет использовано в философии истории. (Тиллих П. Кайрос // www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Tillih/Kairos.php)
[3] Здесь и далее произведения А.С. Пушкина цитируются по изданию: Пушкин А.С. Собрание сочинений. М., 1986. Т. 1.
[4] См.: Лотман Ю.М. А.С. Пушкин: Биография писателя. Л., 1981. С. 206.
[5] Там же. С. 230.
[6]«Цель И[диллии] “всегда и везде одна - изобразить человека в со стоянии невинности, то есть в состоянии гармонии и мира с самим собой и с внешнею средой” (Ф. Шиллер). Как и вся буколическая поэзия, И. “должна представлять состояние самое счастливое, каким только могут люди наслаждаться, и каким наслаждались они, судя по преданиям, в золотом веке'' (Н. Остолопов). Образцы стихотворной И. - произведения Феокрита (3 в. до н.э.). Их объединяет интерес к повсе дневной жизни человека, чьи радости сосредоточены в сфере естественного чувства, неотделимы от природы и быта». (Степанов А.Г. Идиллия // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 77.)
[7]«"Боже! - думал я, глядя на него,- пять лет всеистребляющего времени - старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов, - и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей - есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?" Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки» (Гоголь Н. В. Старосветские помещики. Миргород. М., 1984. С. 26).
[8]Это понятие мы используем вслед за учёными-постструктуралистами. Ролан Барт описывает интертекстуальность следующим образом: «Любой текст — это интертекст: на различных уровнях, в более или менее опознаваемой форме в нем присутствуют другие тексты — тексты предшествующей культуры и тексты культуры окружающей; любой текст — это ткань, сотканная из побывавших в употреблении цитат. В текст проникают и подвергаются там перераспределению осколки всевозможных кодов, различные выражения, ритмические модели, фрагменты социальных языков и т. п.» (Барт Р. Текст (теория текста) // Encyclopaediauniversalis. 1973 http://abuss.narod.ru/Biblio/piegegro.htm)
[9]Гаспаров М. Л. Три типа русской романтической элегии // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. М., 1997. С. 327.
[10] Здесь и далее произведения А.С.Кушнера цитируются по изданию: Кушнер А. С. Стихотворения. Л., 1986. – А. Г.
[11]Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. М., 2013.
[12] Иосиф Бродский так пишет о творчестве Кушнера: «Он скорее сух там, где другой бы кипятился, ироничен там, где другой бы отчаялся. Поэтика Кушнера, говоря коротко, поэтика стоицизма» (Бродский И. Об Александре Кушнере // Александр Кушнер: В честь присуждения Российской национальной премии «Поэт» 2005 года. М., 2005. http://www.poet-premium.ru/laureaty/kushner_buklet.pdf).
[13]Это и лирический герой, и читатель, и, возможно, пространство – луг/рай. – А.Г.
Исследовательская работа ученицы 9-3 гуманитарного класса гимназии № 1514 Гилман Агаты
Научный руководитель: Скулачёв Антон Алексеевич
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса
Мозаика
- 28.03.2017 - Состоится лекция из цикла «Лекторий 1917»
- Между очерком и рассказом: «гибридный жанр» Г. Успенского
- Открытое письмо о стандарте из Санкт-Петербурга
- Еще раз об анализе поэтического текста
- 26-30 июля 2022 - Летняя школа для учителей литературы в Ясной Поляне
- Зачем Пушкину фейковые аккаунты?