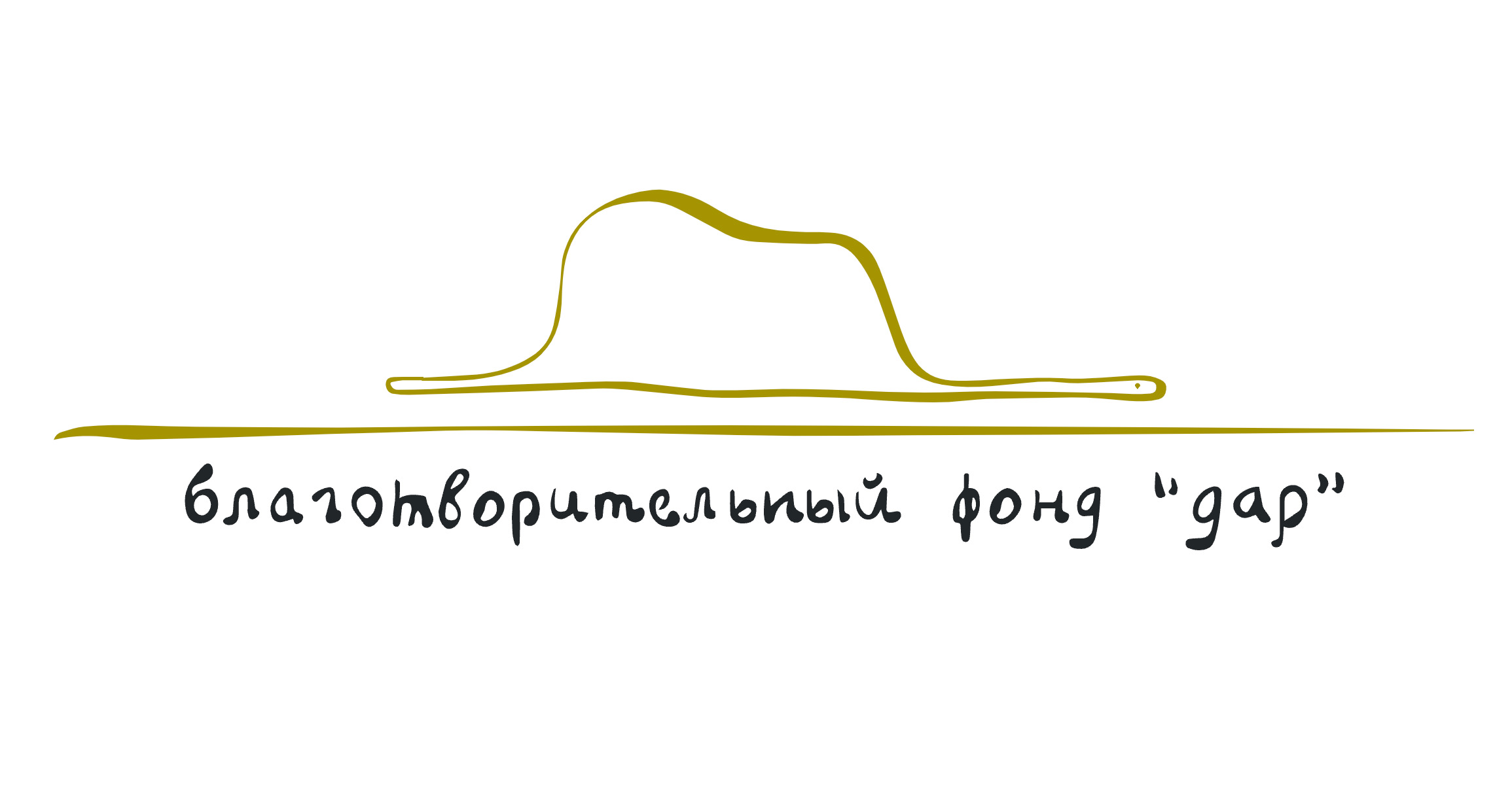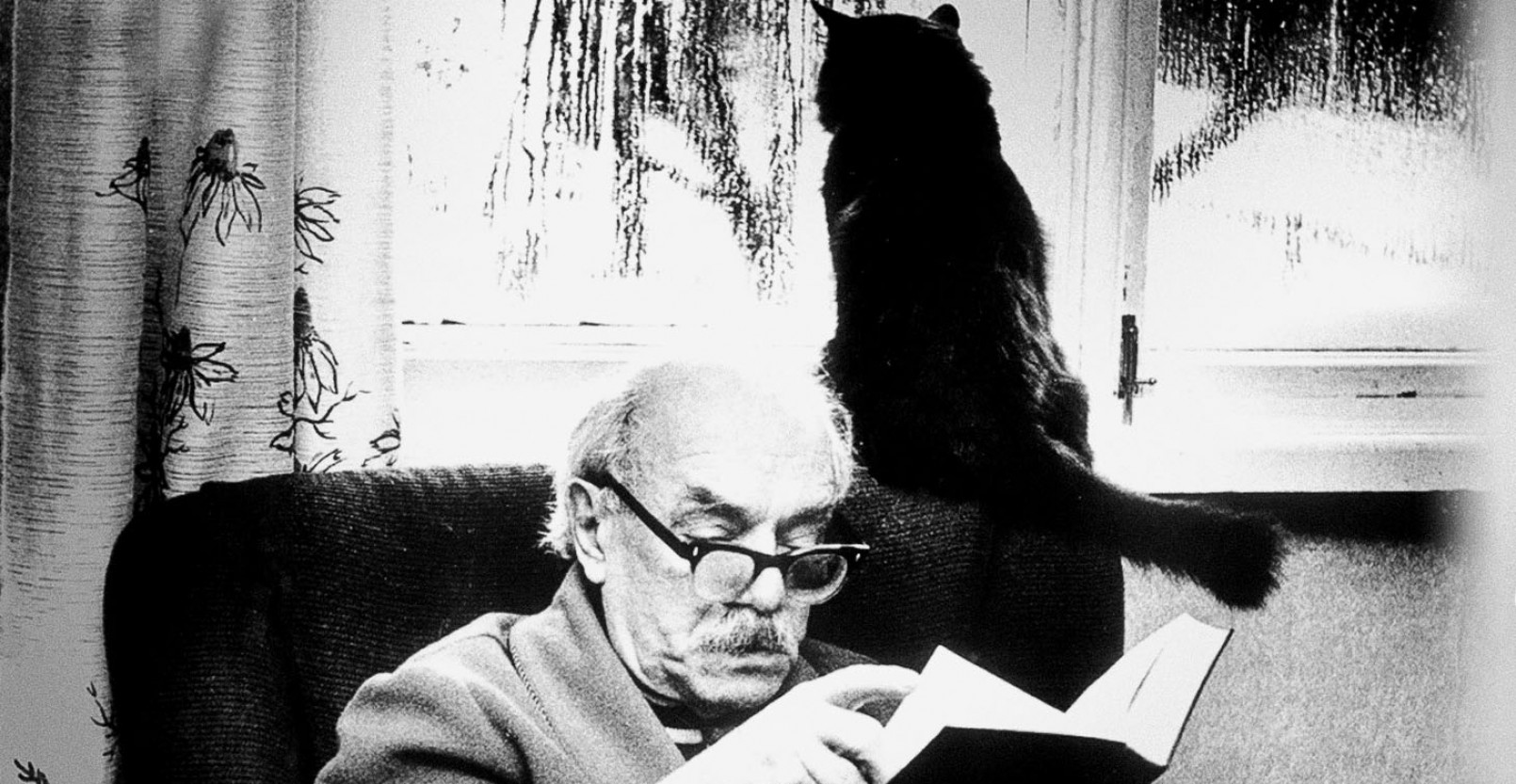
Пушкинианство Давида Самойлова было осознанным и многообразным. Относивший себя к поэтам «поздней пушкинской плеяды»[1], Самойлов словно бы сверял поэзию и жизнь, и собственную, и отчасти близких ему людей, по Пушкину и его кругу.
Разумеется, эта сторона творчества Давида Самойлова неоднократно привлекала внимание исследователей, которые рассматривали в его поэзии жизнь пушкинских мотивов, образов, сюжетов и жанров.[2] Меньшее внимание уделялось другой стороне рецепции – восприятию и преображению пушкинского биографического мифа, точнее – его узловых точек.
Пушкинский биографический миф определяют как миф Нового времени, в котором первоначальная версия судьбы поэта затем многократно переосмысливается как массовым сознанием, так и другими поэтами и исследователями. С одной стороны, пушкинский миф, представляет собой сюжет, опирающийся на реальную биографию поэта и его творчество, с другой стороны, этот сюжет весьма далек от реальности и допускает максимально свободные интерпретации. Для Самойлова, много писавшего о Пушкине, безусловно, важны были опорные точки его биографического мифа. Но они же, как правило, становились и точками отталкивания, поскольку Самойлов конструировал свою версию пушкинского мифа, последовательно и сознательно опровергая основные штампы и мифологемы советского времени.
Взросление Давида Самойлова, сказавшего о себе «Я рос соответственно времени…», совпало с тем этапом формирования пушкинского биографического мифа, который можно определить как государственное присвоение Пушкина. По словам О.С. Муравьевой, сущность этого мифа состоит в том, что «Пушкин безоговорочно провозглашается лучшим, величайшим русским поэтом, а также любимейшим поэтом советского народа».[3] Пышные торжества «годовщины смерти поэта» 1937 года породили и (или) канонизировали ряд ключевых биографическо-идеологических мифологем, связанных с Пушкиным: лицейское братство, чтение стихов Державину на экзамене как момент рождения поэта, постоянное преследование за вольнолюбивые стихи, духовная и идеологическая близость к декабристам, продолжение преследований после поражения декабрьского восстания и, наконец, закономерная в этом контексте гибель поэта от рук самодержавия. К этому же ряду можно отнести и мифологемы о поэте-пророке и поэте-жертве, восходящие к предшествующему, «серебряновечному» этапу канонизации Пушкина и, вероятно, поэтому обладающие особой устойчивостью[4]. Именно на фоне этих торжеств – в сущности, на фоне творящегося мифа – происходило взросление, становление и профессиональное самоопределение Самойлова – в ту пору старшеклассника Давида Кауфмана. Вопрос об отношении к пушкинскому мифу – разумеется, еще не сформулированный подобным образом – оказывается одним из центров внимания в «Поденных записях» в 1936-1937 годах. Критическое отношение к общепринятым догмам – без разрушения их – охватывает и пушкинский миф:
«У нас все становится культом…. О Пушкине кричат на каждом перекрестке, Пушкина превозносят плохие критики. Пушкин – добродетелен, идеал, мировой гений, совершенство. Это, то есть любовь к поэту, несомненно, явление положительное, больше – замечательное и ценное. Но любовь должна быть разумна… Я люблю Пушкина, но без трактатов о нем, без деталей его биографии, без фанатизма, как можно любить замечательного поэта и человека»[5]. Давид Кауфман чувствует вторичную природу пушкинского мифа, когда пишет: «по совести говоря, Пушкина создал Белинский. Он, конечно, создал великое дело, конечно, воздал должное Пушкину, но он же положил начало нескончаемой идеализации его»[6] и сочувственно отзывается о Писареве: «В этом отношении Писарев рассуждал гораздо более здраво, хотя и не совсем верно». Основная интенция этой записи пятнадцатилетнего школьника – попытка ввести Пушкина, ставшего всем, в некие разумные пределы, позволяющие реализовать естественное чувство любви. «Пушкин – поэт русского значения», «Пушкин – только поэт, он совсем не философ» (наивность этой школьной формулы заставляет вспомнить чеховского «Учителя словесности»), и наконец, парафраз Маяковского: «Обожаю Пушкина-поэта, ненавижу Пушкина-фетиш»[7]. Отметим, что в одной из последующих записей Давид Кауфман как раз цитирует «Юбилейное» В.В. Маяковского: «У меня, да и у вас в запасе вечность», и свой разговор с Маяковским строит по образцу разговора Маяковского с Пушкиным: «Итак, беспечный разговор о Маяковском закончен. Завтра в школу».[8] Очевидно, что советскому образу Пушкина, канонизированному во второй половине тридцатых, будущий поэт вполне последовательно противопоставляет незавершенность пушкинского мифа двадцатых годов. Наряду с Маяковским, воплотившим эту тенденцию, можно назвать здесь Пастернака и Багрицкого, чьи имена постоянно появляются в эти годы в «Поденных записях» в связи не столько с размышлениями о Пушкине, сколько с поэтическим самоопределением Давида Самойлова. При всем различии их вариантов пушкинского мифа (для Пастернака Пушкин – олицетворение творящей силы, в которой сливаются «стихия свободной стихии с свободной стихией стиха»[9], для Багрицкого – жертва, за которую нужно отомстить: «Я мстил за Пушкина под Перекопом»[10]), оба создают живой, неокаменевший образ Пушкина, данный в движении и творчестве. Образ, обладающий в свою очередь именно поэтическим потенциалом, который так важен для Самойлова.
Этот поэтический потенциал соединяется в сознании Самойлова с детской любовью к поэзии Пушкина, воспринятой вне напластований идеологических мифов. Позднейшее стихотворение-воспоминание «Из детства» (1956) запечатлело наивное восприятие Пушкина, «Песни о вещем Олеге» и «бренности мира», соединенное с детской болезнью и оттого так прочно вошедшей в сознание. У нас нет оснований утверждать, что в 1956 году Самойлов знал мандельштамовский «Ленинград», но соединение обостренного восприятия мира и впечатлений болеющего ребенка, безусловно, сближает два эти стихотворения.
Вероятно, этот контраст двух этапов становления пушкинского мифа, пришедшийся на детство и юность Давида Самойлова, и определит затем те отправные точки, от которых будет отталкиваться Самойлов, выстраивая свое понимание Пушкина, декабризма, истории России в целом и частной истории человека. При этом преодоление второго этапа мифа шло двумя путями. Первый – это узнавание Пушкина через современность, через жестокое столкновение с реальностью, заставляющее переосмыслить сложившийся мифологический канон. Второй – непосредственное стремление понять личность и судьбу Пушкина вне мифологем. Первый путь по преимуществу связан у Самойлова с судьбой поколения и предполагает лирическое «мы»: таковы мифы о поэтической инициации поколения («Старик Державин») и пушкинском вольнолюбии («Пушкин по радио»). Второй же совершается как свободное и глубоко индивидуальное понимание тайны личности Пушкина («Пестель, поэт и Анна», «Болдинская осень», «Он заплатил за нелюбовь Натальи…», «Михайловское», «Святогорский монастырь»). Рассмотрим их последовательно.
Миф об экзамене-инициации как моменте рождения Пушкина-поэта сформировался и закрепился еще в дореволюционном каноне. В этом качестве он вошел в учебники для гимназий, был зафиксирован на картине И.Е. Репина (1911), а затем последовательно внедрялся в советских школьных учебниках. Его сущность сводится к идее непрерывности традиции, культу учителя и ученичества, идее последовательности развития (и в этом контексте Пушкин как продолжатель дела Державина оказывается едва ли не своеобразным аналогом Сталина, продолжающего дело Ленина). В соответствии с этим мифом поэзия есть не то, что даровано свыше, а то, что признано предшественником; дар детерминирован исторически и передается по наследству. Несколько более позднюю версию этой устойчивой мифологемы, последовательно внедрявшейся в массовое сознание, можно усмотреть, например, в деле Иосифа Бродского, когда судья Савельева задает ему вопрос: «А кто признал, что вы поэт?»[11].
Самойловский миф об инициации строится как ироническая инверсия пушкинского биографического мифа. Характерно, что заглавие «Старик Державин» (1962) восходит не к экзальтированному пушкинскому рассказу о лицейском экзамене: «Я не в силах описать состояние души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом.… Не помню, как я кончил свое чтение; не помню куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять… Меня искали, но не нашли»,[12] а к ироническому осмыслению этого эпизода в восьмой главе «Евгения Онегина».[13] Как отмечает А.С. Немзер, использование образа переданной лиры (согласно наброску Державина, передавалась она отнюдь не Пушкину, а Жуковскому: «Тебе в наследие, Жуковский, / Я ветху лиру отдаю»[14]) восходит к роману Ю.Н. Тынянова «Кюхля» (1925).[15] Этот акт, который в мифологеме предстает как личностный и индивидуальный, у Самойлова иронически отнесен ко всему «поколению сорокового года»:
Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил…
В эту пору мы держали
Оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
С пулеметом я лежал своим» [129].
Война становится, по Самойлову, испытанием-проверкой, то есть подлинным экзаменом и настоящей инициацией поколения. И вместе с тем она не снимает и не снижает планки требований, предъявляемых поэту. В «Памятных записках» Самойлов пишет о военной прозе: «В сущности же, наша военная литература стоит на точке зрения иронической солдатской формулы, принятой всерьез: «Война все спишет». Нет, не спишет! Не списала».[16] Вероятно, именно поэтому сюжет «Старика Державина» строится как опровержение главного сюжетного хода мифологемы: «льстец и скаред» размышляет о том, кому передать лиру, но в результате не отдает ее никому: «Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи! Пусть пылится лучше. Не отдам!» [130]. Контраст между высоким – почти сакральным – делом поэтического предназначения (рукоположение подразумевает преемственность от апостольской церкви) и снижено-бытовым образом «старика Державина» (халат, пасьянс, мурмолочка) создает стилистическое и смысловое двуголосие, подчеркивающее: в «поколении сорокового года» лиру передать некому – те, кто могли быть ее достойны, «может, все убиты наповал» [130].
Близкое представление о соотношении предыдущего и самойловского поколений поэтов отразится позже в стихотворении «Вот и все. Смежили очи гении…», связанном со смертью Анны Ахматовой. Отметим, что ее облик вызывал у Самойлова стойкие ассоциации с Державиным (к «Смерти поэта» взят эпиграф из державинского «Снегиря» [159], и сама Анна Андреевна названа в нем «снегирем Царскосельского сада» [160]) – можно предположить, что эти ассоциации восходят к цветаевскому обращению к Ахматовой: «Что вам, молодой Державин/ Мой невоспитанный стих?». Однако, «Старик Державин» написан еще при жизни Анны Ахматовой, и ситуация, описанная в нем, конечно, не равна биографической. Вероятно, по мысли Самойлова, «поколение сорокового года» было готово к тому, чтобы реализовать себя поэтически, но оно не породило – и не могло породить ожидаемого «нового Пушкина»:
Это не для самооправданья:
Мы в тот день ходили на заданье
И потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал: «Вот черти!
Некому и лиру передать!».
Подобное соотношение двух эпох, подкрепленное стилистическим двухголосием, лежит в основе и более позднего стихотворения Давида Самойлова «Пушкин по радио» (1984). Однако, его лирический сюжет, в отличие от «Старика Державина» строится не только на диссонансе, но и на узнавании:
Возле разбитого вокзала
Нещадно радио орало
Вороньим голосом. Но вдруг
К нему прислушавшись, я понял
Что все его слова я помнил
Читали Пушкина. Вокруг
Шел торг военный, небогатый,
И вшивый клокотал майдан.
Гремели на путях составы:
«Любви, надежды, тихой славы,
Недолго нежил нас обман». [340]
Не случайно одним из двух голосов, из которых сплетается диалогическая ткань стихотворения, становится первое послание «К Чаадаеву». Согласно пушкинскому мифу 1930ых годов, это юношеское стихотворение – наиболее полное и последовательное выражение пушкинских революционных идей, в котором видели призывы к насильственному, террористическому ниспровержению существующего строя. Миф о «советском Пушкине» приводит к тому, что финальные строки послания «К Чаадаеву» начинают восприниматься как одно из непосредственно сбывшихся пушкинских пророчеств.[17] «Политический смысл» послания однозначно трактуется как «уничтожение „самовластья“».[18] Даже датировка стихотворения, которое на основании текстологических данных было отнесено Б.В. Томашевским к 1818 году, в советской пушкинистике последовательно оспаривалась из политических соображений: «Поскольку в политике не декабристы шли за Пушкиным, а Пушкин за декабристами, постольку и революционное по своему характеру послание «К Чаадаеву» не могло появиться раньше начала 1820 года».[19] Интересно, что на этом же основании в дореволюционной пушкинистике послание приписывалось К.Ф. Рылееву.[20] Именно это стихотворение заняло центральное место в изучении пушкинской лирики в советской школе, причем если финал стихотворения трактовался как прямой революционный призыв, то первый его катрен предлагалось рассматривать как окончательный отказ от интимной лирики в пользу гражданской.
Столкновение с пушкинским стихотворением, описанное Давидом Самойловым, сложно назвать непосредственной читательской реакцией: перед нами текст, звучащий по радио, которое в этом контексте оказывается посредником и знаком государственного присвоения Пушкина. На сайте «Старое радио» сохранилось несколько довоенных записей чтения «К Чаадаеву», в том числе Яхонтова, Царева, Качалова. При всем различии их актерских интерпретаций (Качалов, например, воспроизводит текст настолько далеко от оригинала, что его чтение скорее можно назвать свободной вариацией на тему пушкинского текста) можно отметить одну общую тенденцию: первая строфа отчетливо противопоставляется в чтении последующим и отделяется от них длительной паузой. Самойловское же стихотворение композиционно представляет собой аналог ленты Мебиуса, изгибами которой являются как раз начальные строки пушкинского стихотворения. То, что было у Пушкина «стартовой площадкой» произведения, связывающей его с жанровой традицией дружеского послания, оказывается у Самойлова повторяющимся итогом. Подлинное узнавание Пушкина происходит в не предполагавшемся им контексте:
И вдруг бомбежка. Мессершмитты
Мы бросились в кювет. Убиты
Фугаской грязный мальчуган
И старец грозный, величавый.
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман»
Я был живой. Девчонки тоже.
Туманно было, но погоже
Вокзал взрывался, как вулкан
И дымы поднялись, курчавы.
«Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман». [341]
Самойловское стихотворение «Пушкин по радио» строится на многочисленных полемических отсылках к пушкинскому тексту и контексту. Крик радио иронически соотносится с «тихой славой» и ее «обманом», «шальные девчонки» и «роман», который герой стихотворения готов «завести» с ними – с «минутой верного свиданья», взрывающийся, «как вулкан», вокзал – с «обломками самовластья». «Слова-сигналы» пушкинской эпохи наполняются буквальным смыслом, резко заостряющим комические и трагические контрасты. Неразомкнутый, не разрешенный композиционно конфликт «Пушкина по радио» в большей мере напоминает о пушкинских «Бесах», поскольку создает ситуацию, из которой нет выхода. Так в глазах «поколения сорокового года» навсегда разрушается миф о «советском Пушкине».
***
Второй путь преодоления пушкинского мифа в лирике Давида Самойлова можно определить как индивидуальный путь поэта – это стремление понять Пушкина как личность; увидеть его тем самым абсолютным взглядом «без козней, розней и надсады». У истоков этого пути – два написанных почти одновременно стихотворения, сопоставление которых, насколько нам известно, не предпринималось. Это «Болдинская осень» и «Дом-музей» (оба – 1961).
«Дом-музей» написан не о Пушкине. Его герой – некий условный литератор, «собирательный образ» поэта, созданный в советских школьных учебниках, или, говоря словами И. Иртеньева, «опыт синтетической биографии». Стяжение всех элементов произвольного биографического мифа (юношеский бунт, воплотившийся в оде «Долой», прошение монаршей милости, «шинельная ода» – поэма «Ура!», высочайшие награды, «годы странствий», мировое признание) достигается здесь путем полного выхолащивания личности самого поэта. При этом нельзя не отметить в тексте стихотворной экскурсии ряд вполне узнаваемых отсылок к пушкинской судьбе: ода «Долой» отчетливо апеллирует к «Вольности», поэма «Ура!» – к «Полтаве», след дуэли и пейзаж «Под скалой» – к узнаваемым событиям судьбы поэта; круг пушкинских аллюзий этим не исчерпывается. Не случайно стихотворение «Дом-музей» приняли на свой счет сотрудники дома-музея на Мойке;[21] определенные параллели с ним, вольно или невольно заложенные автором, можно увидеть и в довлатовском «Заповеднике», действие которого происходит полутора десятилетиями позже в Михайловском. Можно предположить, что в контексте самойловского творчества условному «дому-музею» противостоит Болдино – несмотря на открывшийся в 1949 году музей, Болдино долго оставалось местом, лишенным «хрестоматийного глянца». Музею вещи противостоит слепок духа:
Везде холера, всюду карантины,
И отпущенья вскорости не жди.
А перед ним пространные картины
И в скудных окнах желтые дожди… [109-110]
Уже первые строфы «Болдинской осени» направлены на то, чтобы воссоздать пушкинское мировосприятие, хотя дистанция между авторским «я» и обращенным к Пушкину «ты» всегда остается ощутимой. Резким контрастом безотрадному кольцу, сжимающему судьбу Пушкина, оказывается его внутренняя жизнь. Соединение свободы и счастья, достигнутое Пушкиным единственный раз, в предсмертном стихотворении «Из Пиндемонти» («Вот счастье! Вот права!…»), перенесено Самойловым в мир болдинских карантинов. Самойловский миф о «счастливчике Пушкине» противопоставлен, с одной стороны, узко социальным трактовкам пушкинской судьбы, с другой - банальным представлениям о «муке творчества»; и в этом его сходство и со стихотворением Б.Ш. Окуджавы «Счастливчик Пушкин», и с написанной Ю.М. Лотманом биографией поэта.[22] Сближает их апология творческой свободы как единственно возможного пути личности в несвободные времена.
И за полночь пиши, и спи за полдень,
И будь счастлив, и бормочи во сне!
Благодаренье богу – ты свободен –
В России, в Болдине, в карантине….
По словам М.Н. Эпштейна, в «Болдинской осени» дана «сужающаяся, смыкающаяся вокруг Пушкина цепь зависимостей: крепостная Россия, сельская глушь, карантинный кордон; и вот внутри этой многостенной тюрьмы Пушкин свободен. Он не борется за свободу, ибо нельзя получить ее извне, она изначально присуща самой личности как совокупность естественных ее проявлений; свобода – это не то, что можно взять, а то, чего нельзя отдать»[23]. Очевидно, что в таком понимании пушкинской свободы Давид Самойлов ориентирован как раз на представления, предшествующие основным советским мифологемам: в «Болдинской осени» можно расслышать и отзвуки блоковско-пушкинской «Тайной свободы», и пастернаковскую «стихию свободной стихии».
Пушкинская свобода от власти уравновешивается у Самойлова свободой от идеологии протеста против нее. Речь идет, прежде всего, об идеях либерального, декабристского, а в более позднем контексте диссидентского толка – предмете постоянных размышлений Самойлова в 1960-80ые. Соотношение отвлеченной идеи и спонтанного поэтического высказывания становится темой стихотворения «Пестель, поэт и Анна» (1965), которое, по точному замечанию А.С. Немзера, стало своего рода «визитной карточкой» Самойлова.[24] Близкое по своей структуре к драматической сцене, стихотворение представляет собой «осколок» не реализованного замысла сцен о Пушкине и декабристах: «1.Пушкин и Пестель в Кишиневе; 2. Пушкин в Каменке (почему декабристы его «не взяли»); 3. Пушкин после казни декабристов» (2 октября 1963 года).[25] Полное самоиронии замечание «Попробуй-ка подумать за Пушкина!» объясняется как раз тем, что Самойлов думает за него в большей степени, нежели за Пестеля: если в дневниковой записи Пушкина высказывание Пестеля приведено точно, то пушкинская реакция на него – очень приблизительно.[26] Вместе с тем Самойлов не столько достраивает пушкинскую мысль, сколько воссоздает его способность к непосредственной реакции, обостренному восприятию жизни – всему тому, что отличает Пушкина от Пестеля (а в более широком контексте – поэта от идеолога):
В соседний двор вползла каруца цугом,
Залаял пес. На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвой.
Стоял апрель. И жизнь была желанна.
Он вновь услышал - распевает Анна.
И задохнулся:
«Анна! Боже мой!» [150-152]
«Болдинская осень» (1961) и «Пестель, поэт и Анна» (1965) – произведения, намечающие утопическую программу «самостоянья» Самойлова. «Самостоянья», максимально близкого к тому, что воплощено в предсмертном пушкинском «Из Пиндемонти», с его подчеркнуто равной независимостью «от царя» и «от народа». Последующие десятилетия, прожитые Самойловым глубоко, напряженно и сложно, отчетливо показали утопизм этой идеи. И в «Поденных записях», и в переписке с Л.К. Чуковской нарастает пережитое Д.С. Самойловым, как и многими его современниками, ощущение того, что внутренняя свобода является не столько реальным выходом, сколько идеальной программой «жизнестроения». Опровержением «Болдинской осени» с ее установкой на свободу от власти, читателей, холерных карантинов становится написанный семью годами позже «Святогорский монастырь», в котором пушкинские мифологемы впервые резко и бескомпромиссно названы «ложью». Характерно, что это понятие – ложь – в равной мере относится и к мифологемам, сознательно порожденным властью, и к собственным недавним заблуждениям. В «Святогорском монастыре» Самойлов не реконструирует пушкинское мышление, как это было сделано в «Пестеле, поэте и Анне», не обращается к нему напрямую, как в «Болдинской осени», а ведет диалог со смертью как бы поверх Пушкина. Обвинение, которое выносит Самойлов себе и своим единомышленникам, жестоко: все легенды о Пушкине – это утешительная ложь; правда была высказана лишь самим поэтом:
Ах! Он мыслил об ином,
И тесна казалась клетка…
Смерть! Одна ты домоседка
Со своим веретеном!
Вот сюда везли жандармы
Тело Пушкина… Ну что ж!
Пусть нам служит утешеньем
После выплывшая ложь,
Что его пленяла ширь,
Что изгнанье не томило…
Здесь опала. Здесь могила.
Святогорский монастырь.
Особую роль в контексте «Святогорского монастыря» обретает пушкинская миниатюра 1836 года «Забыв и рощу и свободу…», в контексте которой, по словам С.Г. Бочарова, «мы чувствуем песню живую и как живую силу и как горькую иллюзию».[27] Соотношение «живой силы» и «горькой иллюзии» глубоко волновало Самойлова и по отношению к Пушкину, и по отношению к судьбе собственного поколения. От пушкинского мифа Самойлов шел к осмыслению собственной судьбы – не потому, что ставил себя рядом с Пушкиным, а потому что эта мерка оказалась поистине всеобщей.
Преодоление пушкинского мифа совершалось в лирике Самойлова не путем его отрицания, а проживанием и прохождением сквозь него. Пушкинская судьба волновала Самойлова не как судьба другого поэта – он соотносил ее с историческим опытом своего поколения и искал в ней ответ на вопрос о личной стратегии поведения и мысли.
[1] Самойлов Давид. Стихотворения / Вступ. Статья А. С. Немзера; Составление, подг. текста В.И. Тумаркина; Примеч. В.И. Тумаркина и А.С. Немзера – СПб., : Академический проект, 2006 – 800 с. Новая библиотека поэта. В дальнейшем лирические произведения Д. Самойлова цитируются по этому изданию с указанием номера страницы в квадратных скобках
[2] Немзер А.С. Пушкин в стихотворении Давида Самойлова «Ночной гость» // Пушкинские чтения в Тарту 4: Пушкинская эпоха: проблемы рефлексии и комментария: Материалы международной конференции. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. С. 152–190; Немзер А.С. Лирика Давида Самойлова // Самойлов Д. Стихотворения. Немзер А.С.. Поэмы Давида Самойлова // Самойлов Д. Поэмы. М., 2005. Медведева Г. И. К образу Дон-Жуана в поэзии Д. Самойлова // Вопросы литературы. 2003. № 3. С. 223–225. Медведева Г. О Пушкиниане Давида Самойлова // ЛГ — Досье. 1990. Июнь. С. 8. Гуменная Г.Л. «Граф Нулин» и традиция ирои-комической поэмы// Болдинские чтения. Волго-Вятское книжное издательство. Горький, 1985, с. 94-101; Кононова Н.В. «Старый Дон Жуан» Давида Самойлова: диалог с классикой // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. XII. Таллин, 2012, с. 201-209.
[3] Муравьева О.С. Образ Пушкина: исторические метаморфозы / Легенды и мифы о Пушкине: сборник статей / Под ред. М.Н. Виролайнен (Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН). – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1995, с. 128.
[4] Бройтман С.Н. Пушкин и русский символизм // Бройтман С.Н. Тайная поэтика Пушкина. Тверь, ТГУ, 2002, с. 60-67; Мусатов В.В. Пушкин в эстетическом самоопределении русского символизма // Мусатов В.В.Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины ХХ века. М.: РГГУ, 1998, с. 13-21.
[5] Самойлов Д.С. Поденные записи: В 2 т. – Т. 1. – М.: Время, 2002, с 80
[6] Самойлов Д.С. Поденные записи: В 2 т. – Т. 1. – М.: Время, 2002, с. 62
[7] Самойлов Д.С. Поденные записи: В 2 т. – Т. 1. – М.: Время, 2002, с. 81
[8] Самойлов Д.С. Поденные записи: В 2 т. – Т. 1. – М.: Время, 2002, с. 105
[9] Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы: в 2-х и. Т. 1. Л.: Сов. писатель, 1990 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 167.
[10] Багрицкий Э.Г. Стихотворения и поэмы. М.-Л.: Сов писатель, 1946 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 319.
[11] Лосев Л.В. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М., Молодая гвардия, 2006, с. 89-90.
[12] Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах . Т. 7. М., 1962, с. 275-276.
[13] Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 4, М., 1960, с. 156.
[14] Державин Г.Р. Сочинения. СПб.: Академический проект, 2002 (Новая Библиотека поэта). Фрайман Т. Державин и Жуковский: к вопросу о творческом наследовании // Пушкинские чтения в Тарту 3: материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию В.А. Жуковского и 200-летию Ф.И. Тютчева / Ред. Л. Киселева. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. С. 9–29.
[15] Самойлов Давид. Стихотворения / Вступ. Статья А. С. Немзера; Составление, подг. текста В.И. Тумаркина; Примеч. В.И. Тумаркина и А.С. Немзера – СПб., : Академический проект, 2006 – 800 с. Новая библиотека поэта. БП, с. 671.
[16] Самойлов Д.С. Поденные записи: В 2 т. – Т. 1. – М.: Время, 2002, с. 217
[17] Муравьева О.С. Образ Пушкина: исторические метаморфозы / Легенды и мифы о Пушкине: сборник статей / Под ред. М.Н. Виролайнен (Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН). – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1995, с. 129.
[18] Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813-1826). Изд. АН СССР, М.- Л., 1950, с. 175.
[19] Пугачев В.В. К датировке послания Пушкина «К Чаадаеву». Временник Пушкинской комиссии. 1967-1968. Л., 1970, с. 85-88
[20] Гофман М.Л. Пушкин. Его общественно-политические взгляды и настроения. Чернигов, 1918, с. 46-47.
[21] Самойлов Давид. Стихотворения / Вступ. Статья А. С. Немзера; Составление, подг. текста В.И. Тумаркина; Примеч. В.И. Тумаркина и А.С. Немзера – СПб., : Академический проект, 2006 – 800 с. Новая библиотека поэта. БП, с. 671; Степанищева Т. Стихотворение Д. Самойлова «Дом-музей» в переводе Яана Кросса/ Блоковский сборник XVIII: Россия и Эстония в ХХ веке: диалог культур. Вып. 18. Тарту, 2010. С. 185-201.
[22] Александрова М.А. «Счастливчик Пушкин» и другие // Голос надежды. Новое о Булате Окуджаве: Альманах. М., 2005.Выпуск 2, с. 313 – 324.
[23] Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии ХIХ – ХХ веков. М., 1998, с. 98, курсив автора статьи.
[24] Немзер А.С. Автопародия как поэтическое credo: «Собачий вальс» Давида Самойлова // От Кибирова до Пушкина. Сборник в честь шестидесятилетия Н. А. Богомолова. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 268-283
[25] Самойлов Д.С. Поденные записи: В 2 т. – Т. 1. – М.: Время, 2002, с 339; Самойлов Давид. Стихотворения / Вступ. Статья А. С. Немзера; Составление, подг. текста В.И. Тумаркина; Примеч. В.И. Тумаркина и А.С. Немзера – СПб., : Академический проект, 2006 – 800 с. Новая библиотека поэта. БП, с. 675
[26] Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах . Т. 7. М., 1962, с. 275-276.
[27] Бочаров С.Г. «Свобода» и «счастье» в поэзии Пушкина. // Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974, с.25.
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Навигация
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса
Мозаика
- Объявлены направления тем итогового сочинения в 2021/2022 году
- 05.04.2017 - Занятие Школы юного филолога НИУ ВШЭ. Тема занятия: «Как стать писателем»
- 7 октября 2018 г. - Устная олимпиада по лингвистике
- Итоги конкурса методических проектов Гильдии словесников
- 3–9 сентября 2021 г. – Пост-программа Летней школы для учителей литературы в Ясной Поляне–2021
- Жизнь замечательных вещей. Выпуск №24