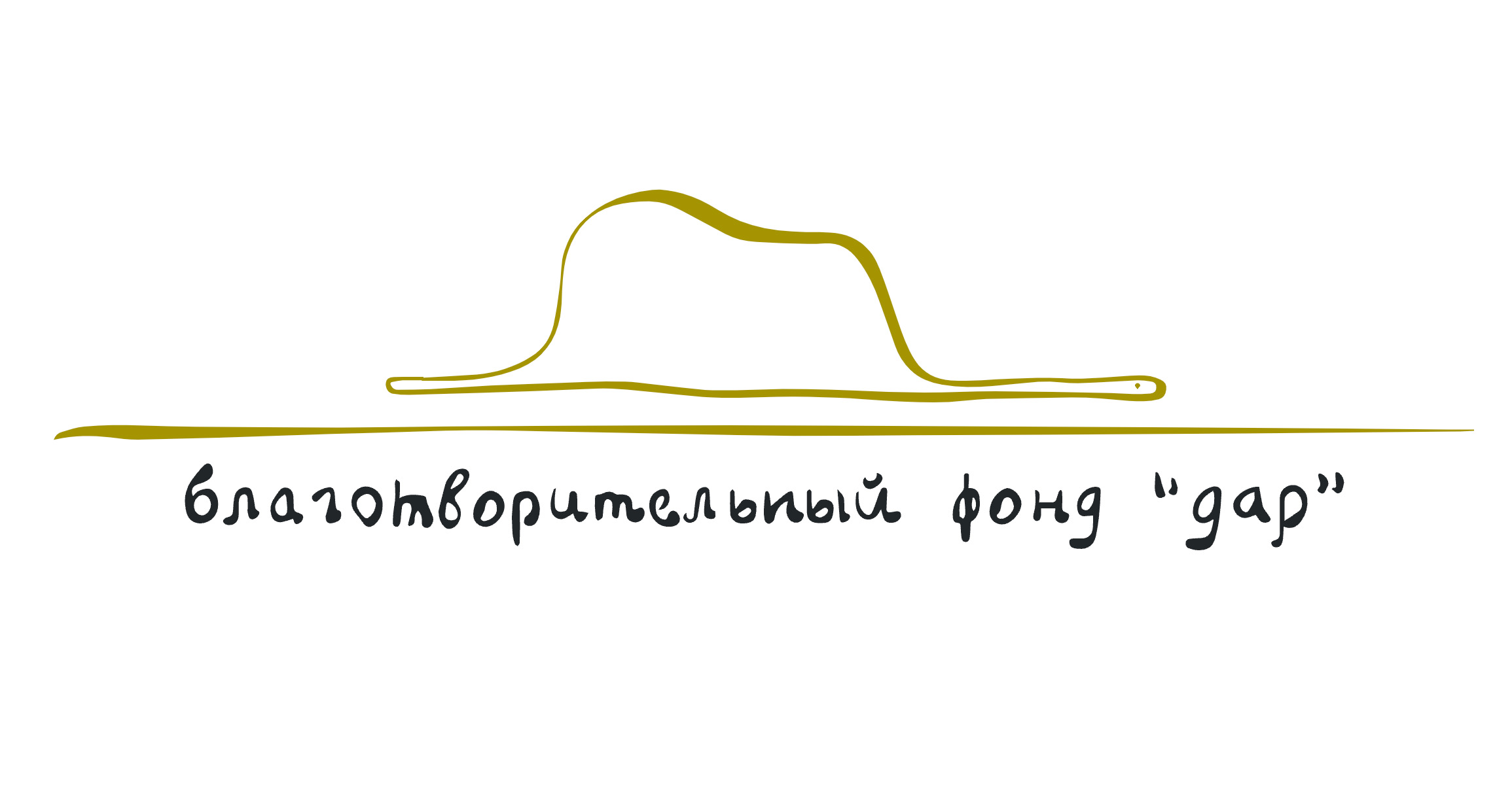В 2023 году вышла книга А.Н. Архангельского и А.А. Новиковой “Педагогика трансмедийного творчества”.
Книга предлагает новый теоретический и методологический подход к использованию современных медиатехнологий, трансмедийных нарративов и навыков современных сетевых коммуникаций при изучении произведений, входящих в школьный литературный канон. Это позволяет балансировать две задачи обучения – трансляцию традиции и вовлечение в современность, а также реализовать принципы гуманистической педагогики, на которые ориентируются авторы.
Посетителям сайта Гильдии словесников предлагаем ознакомительный фрагмент книги – 3 и 4 главы, “От канона к кичу” и “Методические приёмы деконструкции кича”.
А. Н. Архангельский, А. А. Новикова
“Педагогика трансмедийного творчества”
Глава 3. От канона к кичу
Возвращаемся к логике общего.
Метафора «литературного канона», вынесенная нами в название книги, указывает на конфликтную зону современной культуры. Мы уже говорили об этом в начале книги, отмечая, что в этой точке сталкиваются привычное отношение к русской классической литературе как к сакральной ценности — с одной стороны, и защитная реакция на ситуацию неопределенности и обесценивания достижений прошлого — с другой.
Культура как эстафета
Полемика по поводу списка текстов, знание о которых нужно передать, как эстафету, новым поколениям, продолжается не одно десятилетие, охватывает спектр мнений от крайне правых до крайне левых позиций, от И.Л. Солоневича до Э. Батуман, и далеко выходит за пределы России — и русскоязычной диаспоры. Среди прочего, о том, как классическая литература фиксирует и одновременно формирует русскую цивилизационную традицию в целом, пишет в книге «Танец Наташи» профессор истории Лондонского университета Орландо Файджес. В своей работе он отталкивается от одной из ключевых сцен «Войны и мира» (т. II, ч. 4, гл. 7), где описывается внезапное, берущееся «ниоткуда» пробуждение национального начала в «графинечке» Наташе Ростовой:
«Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке гитары, настроил и поправился на кресле… и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать известную песню “По у-ли-и-ице мостовой”. Враз, в такт с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало все существо Анисьи Федоровны), запел в душе у Николая и Наташи мотив песни. …
— Прелесть, прелесть, дядюшка! еще, еще! — закричала Наташа, как только он кончил.
Она, вскочивши с места, обняла дядюшку и поцеловала его. …
Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала. Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de châle давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. …Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке».
Отталкиваясь от этого эпизода, как бы просвечивая им толщу истории, Файджес освещает самые разные стороны русской идентичности. Для нас в данном случае важно лишь одно: именно литературное отражение эпохи и людей 1812 года становится для западного исследователя отправной точкой для исторических реконструкций; опорный текст русского литературного канона служит самоочевидным синтезом всех основных черт русской культуры и политики.
Тем более этот подход распространен в отечественной практике; в последние годы он попадает в широкий контекст дискуссии о национальном «культурном коде» и незыблемых чертах русской культуры. Оставаясь в рамках этой дискуссии, трудно прийти к рациональному решению, в какой степени канон (литературный и не только) можно считать явлением органическим, нерукотворным, а в какой это конструкт, поддерживаемый и отчасти создаваемый институтами актуализации памяти. В том числе — и только что процитированным фрагментом «Войны и мира», который является не научным доводом в пользу существования неизменного «культурного кода», спящего в любом русском человеке, но средством эмоционального внушения.
Гораздо полезнее обратиться к негуманитарным (точнее, не узко-гуманитарным) исследованиям социокультурной традиции и ее влияния на разные стороны общественной жизни. В частности, к социологическим, статистическим, экономическим, кросс-культурным штудиям. В них тоже есть простор для гипотетических построений, но они хотя бы опираются на большие массивы данных.
Традиции, рассмотренные под таким углом зрения, предстают как воспроизводимые из поколения в поколение неформальные институты и ценности, от трудовой этики до поведенческих моделей и принятия/отторжения мотиваций. Традиции бывают органические, т.е. приобретшие статус неформально воспроизводимых, и конструкционные. Примером традиции как конструкта, вопреки общераспространенной иллюзии, является шотландский килт, который подпоясывался длинным пледом, закрывавшим все тело, а название «килт» получил лишь через 20 лет после Унии, и от англичан, а не от шотландцев. После восстания 1746 года килт был запрещен; только в 1785 году появляется его первое печатное описание, а легенда об исконности и древности килта была порождена в 1822 году, благодаря книге «полковника Д. Стюарта». И в том же году состоялся визит короля Георга IV в Эдинбург — первый визит представителя этой династии в Шотландию. «Мастером церемоний, взявшим на себя решение всех практических вопросов, был сэр Вальтер Скотт; своим ассистентом он назначил полковника Стюарта из Гарта; почетный караул, которому Скотт и Стюарт поручили охрану королевской особы, государственных чино вников и регалий Шотландии, состоял из “энтузиастов филибега”, членов Кельтского клуба, “одетых в соответствующий наряд”».
А примером традиции как органики, как ни странно, служит печатная машинка, которая в момент своего появления на рынке закрепила неудобную для 10-пальцевой системы раскладку латинской клавиатуры. С тех пор прошло полтора столетия, но она воспроизводится до сего дня, в компьютерную эпоху. Экономисты описали на этом примере «эффект квертизации», или «эффект QWERTY», по первым буквам верхней строки (если возникает привычка, то дороже и дольше вводить изменения, чем соблюдать то правило, которое принято огромным числом людей как «свое», утвердившееся во времени и пространстве), и связали проблему воспроизводимости неудобных институтов с институциональными ловушками на пути к развитию.
Нам, в связи с нашей темой, важно еще раз подчеркнуть, что традиции в целом, а значит, и культурные традиции в частности, и литературные традиции в особенности содержат как признаки «органические», так и признаки «конструктивистские». И живут традиции не только в коллективной памяти, что бы под ней ни понималось, но и в зоне кураторских решений. Поясним на примере изобразительного искусства. Очевидными репликами в этом бесконечном споре об управляемости и стихийности традиции стали несовместимые концепции грандиозных выставок, которые в разные годы были осуществлены, с одной стороны, Благотворительным фондом В.О. Потанина, с другой — митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым). Мы имеем в виду организованную под эгидой фонда выставку «Russia!» в нью-йоркском Музее Соломона Гуггенхайма (2005) и задуманную и патронируемую митрополитом Тихоном выставку «Сокровища русских музеев» (2018; сокращенная версия в 2019–2020 годах была показана в ряде региональных музеев). Первая выставка подчеркивала универсальность русского искусства, смысловые рифмы между иконописью и авангардом, Рублевым и Малевичем. Вторая выстраивала сквозную линию созерцательного реализма как нормы и отличительной черты отечественного искусства. И та и другая опирались на картины, признаваемые шедеврами; и та и другая принципиально по-разному концептуализировали канон, в одно и то же время предъявляя его — и закрепляя свою версию в сознании зрителя. И та и другая основывались на разработках крупных искусствоведов, параллельно массовизируя «объект предъявления» и оперируя механиками и мощностями массовой культуры.
Литературы это касается в еще большей степени. В последние годы дискуссия о каноне особенно обострилась — как в связи с новым витком технологических трансформаций, так и в качестве ответа на усиление настроений охранительства, которое, как было сказано выше, предлагает новый российский ФГОС и сопровождающие его документы. Само слово «канон», в понимании составителей этих сопровождающих документов, предполагает завершенность избранного круга авторов и интерпретаций. То есть, настаивая на органической природе канона, они используют самые жесткие механизмы создания, а затем и закрепления конструкта.
Изменчивость как признак традиции.
И тут, с нашей точки зрения, возникает еще один значимый парадокс.
Инварианты классических сюжетов и мотивов, смелая игра с «чужим словом», цитация и контекстная игра — константы литературы XIX века, когда рождалась и формировалась классика. Череда отступлений от канонических «исходников» может быть уподоблена череде мутаций живого организма, без которых немыслима эволюция. Поэтому классика остается живым явлением ровно до тех пор, пока она вовлечена в бесконечный поток интерпретаций и вариаций на ее темы, сюжеты и образы, от самых умеренных до самых радикальных.
Образ Фомы Фомича Опискина, созданный Достоевским, который в процессе работы над «Селом Степанчиковым и его обитателями» внутренне освобождался от гоголевского притяжения, был не менее важен для канонизации автора «Шинели», чем статьи Белинского. Отголоски «Бедной Лизы», от «Эды» Баратынского, бедной воспитанницы в «Пиковой даме» и до «Бедных людей» того же Достоевского, его бесчисленных Лиз и Лизавет, хорошо исследованы и ясно показывают: отклонение от традиции есть условие ее существования. Более того, она живет отклонениями, она строит на них свой подвижный мир.
В этом смысле классика (и канон в целом) в одинаковой степени нуждаются в академических практиках изучения, т.е. в научном сохранении своей музейной подлинности — и в постоянных современных «искажениях», версиях и отголосках. С мертвым объектом не спорят; мертвому объекту поклоняются. В этом смысле парадоксальным образом главными могильщиками школьного литературного канона оказываются именно сторонники жесткой модели его сохранения и бесконечной трансляции «один к одному». Не учитывая кривизну исторического пространства и эффект неостановимой трансформации, они повторяют ошибку дореволюционных преподавателей Закона Божьего, сведенного до катехизиса; как мы знаем, конфликт между текущей задачей (трансляция неизменного и скучного набора вероучительных принципов) и целью (вовлечение в сам глубокий и таинственный мир веры) был тогда решен в пользу начетничества. Результат эксперимента известен — равнодушная сдача экзамена и массовый отход от церкви сразу после революции. Потому что из границ начетничества, потерявшего связь с меняющейся реальностью, есть только два выхода — саботаж и бунт. Пока есть инструменты принуждения, работает саботаж, когда они исчезают (революция, смена формации), происходит бунт.
На самом деле культурная традиция все время обогащается новыми ценностями, некоторые из них являются как бы ниоткуда, случайно, но становятся важнейшими факторами развития. И одновременно на нее влияет меняющееся отношение людей к ценностям прошлого. Доминирующие в обществе интерпретации знакомых, «вечных» образов, сюжетов, смыслов связаны со всем комплексом культурных практик — от политики и экономики до новых технологий и новых бытовых привычек. Делать вид, что это не так — значит обрекать себя на неадекватные решения, на романтический (и в то же время архаический) самообман: ничего не меняется, можно использовать прежние методы и форматы школьного преподавания. Результат — отторжение, непонимание, нарастающие сложности в восприятии прошлого. Переоценка существующей культуры — не просто совершенно нормальная, но и единственно правильная практика, способствующая развитию общества.
И понятным это стало не вчера. Так, лингвист и историк культуры Юрий Рождественский, размышляя о динамике культуры, отмечал: «Связь поколений в культуре не есть простая передача культурных навыков и знаний. Это всегда переоценка существующей культуры <…>. Новое поколение всегда по-новому относится к культурной традиции <…>. Критика и переоценка традиции у нового поколения сопровождается обычно попытками изменить форму поступков, предполагая свою форму поступков, т.е. новый стиль, по меньшей мере, в поведении». Это очень важное замечание не только потому, что оно легитимизирует переосмысление классики, но и потому, что акцентирует внимание на принципиальном положении: меняющийся стиль поведения каждого следующего поколения заставляет его по-новому смотреть на поступки героев классики и по-новому отвечать на вечные вопросы, которые через своих персонажей задают писатели. Меняющийся стиль поведения рождает потребность в новых художественных высказываниях по поводу как бы устоявшихся текстов — в экранизациях, произведениях-отголосках, созданных на языке современных искусств, в собственных творческих практиках школьника, от фанфика до игры, инсценировки или публичной дискуссии. Переосмысление — это не обесценивание, переосмысление — это возможность думать вместе с писателем и развиваться вместе с литературой.
Слепое же следование традиции, попытка ее «подморозить», свести к неподвижным основаниям, методическим прежде всего, ведет к подмене живых классических текстов их симулякрами. То есть, вспоминая классификацию симулякров, восходящую к Делёзу — Бодрийяру, симуляциями исчезнувшей подлинности. Предложенная (прежде всего Бодрийяром) классификация, если упростить ее до предела, описывает четыре уровня симулякров: на уровне копии, на уровне дайджеста, на уровне подмены и на уровне собственно симуляции. Остановленная, «подмороженная» традиция превращает классические тексты, равно как тексты литературного канона в целом, в симулякры на уровне копии и на уровне дайджеста. Тем самым живая жизнь классики заканчивается ровно в тот момент, когда мы отказываем классической традиции в праве радикально меняться как количественно (набор текстов), так и качественно (набор толкований). А вместе с ней заканчивается и живой контакт новых читателей со старым текстом. Проблема, повторимся, не столько в том, что какие-то слова или конфликты непонятны современным школьникам, сколько в том, что текучие классические тексты в таком случае подменяются их неподвижными кичевыми аналогами.
Поясним свою мысль. Понимая кич как способ структурирования мира в связи с потребностями обыденного, «наивного» читательского сознания, мы объясняем эту проблему школьного литературоведения желанием авторов учебников и части учителей сделать мир понятным и надежным для обыденного сознания. Снова воспользуемся (быть может, слишком смелым) сравнением: уже упоминавшийся катехизис делает надежным и понятным мир сложнейших богословских построений и меняющихся религиозных практик. Но берет за это слишком высокую цену — потерю главного, ради чего верующий и приходит к своему Богу. Так и с литературой; кичевое приспособление классики к обыденному запросу на «понятность» и однозначность дает иллюзию причастности к сакрализированному прошлому, но требует взамен нечто более важное — отказ от вольного читательского опыта. Что, в свою очередь, заставляет методистов постоянно доказывать, что классика противостоит обыденности, принадлежит исключительно высокой культуре, неизменна и дает ответы на все вопросы, даже на те, которые в момент ее создания не могли быть поставлены. Меняющееся содержание не подлежит сакрализации, а только сакрализация может придать кичу незыблемый статус.
Механизмом «кичевизации» классики становятся наборы готовых клише, которые тиражируются в школе и в ответ на запрос господствующей идеологии, и в связи с воспитательными задачами, требованиями родителей и учителей («надо передавать традицию», «нас так учили»). Эти наборы создаются и воспроизводятся частью методического сообщества, включая составителей учебников и разработчиков программ. Но для воспроизводства клише школьникам достаточно знакомства с текстом в сокращениях и пересказах. На что все чаще идут современные учителя, даже лучшие — потому что установка на неподвижность и воспроизводимость классического «объекта» ведет к встречному саботажу школьника. Иными словами, превращение классики в кич с неизбежностью предполагает ее сакрализацию, а требование «Читайте классику!» может приводить к потере навыка чтения. Что, в свою очередь, почти неизбежно при торжестве квазирелигиозных практик; если объект сакрален и неприкосновенен, зачем нужна самостоятельность его освоения и восприятия? Достаточно ознакомиться с канвой сюжета и/или набором цитат и получить одну — правильную — интерпретацию.
В итоге ученик получает не сами каноничные тексты, а набор простых нарративов о них. Результат оказывается противоположен цели. Для превращения сложного и вечно меняющегося классического текста в кич, составленный из готовых клише, есть еще один эффективный инструмент: итоговое сочинение. Задумывалось оно как вольное высказывание на любые предметные, межпредметные и общественные темы, но тоже превратилось в литературоцентричную начетническую демонстрацию знакомства с образами, идеями и сюжетами произведений, включенных в канон. Даже не диалог с текстом, а именно начетническую демонстрацию знания о нем. Такое сочинение практически невозможно написать, не воспроизводя клише и не сводя объемные образы до уровня кича.
Так на месте живой культуры образуется ее мертвый двойник, и с этим двойником предлагают работать многие традиционные образовательные методики. При такой установке не спасает даже использование других платформ (экранизаций в том числе), потому что в массовой школе экранизации чаще всего используют не для усложнения и расширения литературного образа, а как иллюстративный набор все тех же клишированных образов и смыслов.
Ощущая проблему омертвения текстов, их кичевизацию, но не видя реального выхода из смыслового тупика, педагогическое сообщество в массе своей воспринимает любые медиаинтерпретации как уход от текстов в «игру» (противопоставляемую чтению), в иллюстративность и визуализацию, в примитивное комментирование. Но все это само по себе не избавляет и не спасает от кичевизации, потому что толкает на тот же опасный путь — от живого диалога с непредустановленным результатом к симулякру. Только уже не на уровне дайджеста, как в привычном школьном курсе, а на уровне подмены. А в некоторых случаях — уже и собственно симуляции.
Однако при адекватном, правильном использовании медиатворчество позволяет пробить панцирь кича вокруг произведений, входящих в школьный литературный канон. Не замотивировать на возвращение к привычному нарративу, но и не подтолкнуть к разрыву с классическим первоисточником, а именно пробить панцирь. То есть сделать центром учебного процесса сотворчество, самопознание и самореализацию, а развитие личности считать главным образовательным результатом. В этом смысле предлагаемая нами трансмедийная стратегия — это не первичный уход от текста, а повторное приближение к нему. Это шанс остранения и свежего взгляда на текст, за которым может последовать рождение новых текстов (но не традиционных сочинений, а текстов мультимодальных, способных расширить диапазон эстетических эмоций читателя).
Таким образом, от современных исследований мы перебрасываем мостик в прошлое, к ключевому методическому принципу литературного образования в школе, некогда сформулированному М.А. Рыбниковой: «От маленького писателя — к большому читателю». Целый ряд советских, а затем и российских педагогов видели в системных творческих заданиях выход из неразрешимого противоречия между трансляцией «канона» и вовлечением в чтение. Втягивая школьника в творчество, ставя его в позицию «маленького автора», мы не просто облегчаем понимание классического наследия, не только развиваем личность ребенка, но и превращаем чужое — в свое, т.е. даем возможность в прямом смысле слова усвоить образцовый литературный текст.
Глава 4. Методические подходы к деконструкции кича
Снова от общего возвращаемся к частному, конкретному.
Говоря о трансмедийной стратегии обучения на уроках литературы в школе, мы смотрим на потенциал мультимодальности как на средство для интерактивной медиакоммуникации с литературным текстом, его автором и интерпретаторами, историческим и научным контекстом, между различными социальными группами — школьниками, их родителями, учителями, школьными библиотекарями, авторами учебников и методистами, режиссерами экранизаций и инсценировок. Создавая вокруг литературного произведения собственные мультимодальные тексты, ученик становится одновременно и читателем, и соавтором, погруженным в творческую саморефлексию и социальную идентификацию.
Это представляется нам возможным в случае, если работу с классическим литературным текстом преподаватели будут начинать с деконструкции кича. Мы предлагаем использовать для этого творческие практики и методы, традиционные для гуманитарных исследовательских подходов, в частности, семиотического, формального и нарративного. Объединяясь на почве семиотики, эти подходы теряют свои ограничения и позволяют работать на единую цель — выявление клише, их слом и уход от кича.
Анализ доминант
Началом такой работы может стать анализ доминант и метафор в текстах разной природы, связанных с классическими литературными произведениями (т.е. в различных экранизациях и иных интерпретациях). Такой анализ помогает не только отказаться от клише в интерпретации, но и организовать творческую работу по созданию трансмедийных расширений литературного текста. А анализ различных нарративов, объединенных внутри романа, позволяет посмотреть на историю с разных точек зрения, что важно не только для последующей творческой деятельности учеников, но и для формирования привычки к чтению. Ведь погружение в чтение не обязательно должно быть линейным. Оно может начинаться с более интересных читателю отрывков, а потом переходить к тем, осмысление которых требует большего напряжения.
Вновь проиллюстрируем наш подход на примере произведений Льва Толстого. Как уже было сказано, «ставка на Толстого» обусловлена целым рядом факторов. Казалось бы, это должно вести к по-настоящему глубокому знакомству с творчеством писателя. Тем более, что разнообразие героев (от простых людей до исторических личностей), историческая и бытовая конкретика, переплетающаяся у Толстого с философским переосмыслением человеческой жизни и исторических процессов, позволяет обсуждать практически безграничный круг тем, что успешно доказали исследования Б.М. Эйхенбаума.
Однако произведения Толстого остаются одними из самых сложных для изучения. Значительная часть школьников читает только фрагменты из «Войны и мира». Девочки часто начинают с глав, касающихся отношений героев, мальчики — с батальных сцен. И это не капризы подростков, а интуитивное понимание изменчивой природы восприятия и оценки художественных достижений.
Эту изменчивость отмечал еще Р.О. Якобсон, говоря о постоянных сдвигах в системе художественных ценностей, которые подразумевают такие же сдвиги при оценке различных явлений в искусстве. Результатом этих сдвигов становится преобразование привычной нормы и постепенное утверждение новых норм, к которым раньше относились с пренебрежением, а в итоге приняли как позитивную ценность.
Важно отметить, что Якобсон размышляет о системе поэтических норм, важных для того или иного поэтического жанра, и об элементах, которые первоначально выполняли функцию доминанты, но со временем стали вспомогательными и необязательными, или, напротив, о второстепенных, которые приобрели статус основных. Используя его идеи (в частности, понятие «доминант») в своей работе, мы не буквально следуем за ними, но творчески развиваем. И говорим, прежде всего, о содержательных доминантах и о свободе, например, исследователя или режиссера-интерпретатора акцентировать внимание зрителей вовсе не на тех элементах истории и идеях, которые в литературоведении принято считать основными для этого автора, и даже не на тех, которые сам автор определяет для себя как основные (Лев Толстой, например, достаточно много писал в дневниках о том, что считает для себя важным в своих литературных произведениях), но на максимально созвучных современному культурному контексту или личным интересам каждого из учеников.
Приведем несколько примеров, чтобы проиллюстрировать эту мысль. В послесловии к книге «Литературные лейтмотивы» литературовед Борис Гаспаров подробно анализирует первую сцену «Войны и мира» Толстого (в салоне Анны Павловны Шерер) и подчеркивает, что лейтмотивом ее становится многократно повторяемое сравнение разговоров посетителей салона с жужжанием прядильных веретен. В качестве так называемых «внетекстовых ассоциаций» Гаспаров привлекает античную мифологию, в которой движение веретен — характерный атрибут богинь судьбы (греческие Мойры, римские Парки), прядущих нить человеческих судеб. Развивая мысль дальше и отчасти опираясь на давние наблюдения толстоведов, исследователь находит все больше античных аллюзий в тексте Толстого: описания Элен, неоклассический образ императора Александра и т.д. Все это дает Гаспарову основание для формулировки принципов смысловой индукции, лежащей в основе анализа текста. Для проектной же работы звуковой образ жужжания веретен и визуальные образы античных элементов в интерьерах светских гостиных и костюмах на парадных портретах могут стать теми ключевыми метафорами, вокруг которых школьники будут выстраивать свои трансмедийные истории. Такое дополнение не разрушает единство классического текста. Сошлемся на авторитет того же Гаспарова, считавшего, что «внесение все новых элементов не размывает границы текста, а, напротив, увеличивает число и интенсивность ассоциативных связей внутри текста и тем самым утверждает его целостность». Зато подобные дополнения опасны для трансляции кичевых интерпретаций классики, поскольку они с большой вероятностью уводят аудиторию от клише. А это именно то, к чему мы должны стремиться в рамках педагогики читательского творчества.
Примеры плодотворного (с нашей точки зрения) подхода к работе с классическими текстами можно найти и у кино- и театральных режиссеров. Например, создатели сериала ВВС по «Войне и миру» (2016) акцентировали внимание зрителей на мелодраматических отношениях героев, адаптировав классику к характерным для современной сериальной культуры нарративам и визуальному языку. Это не только открыло Льва Толстого молодому западному зрителю, но и привлекло аудиторию российского телевидения (сериал был показан в России по Первому каналу). Подобная свобода интерпретации должна быть, по нашему мнению, и у школьного учителя и учеников.
Использование метафор
Выше мы говорили, прежде всего, о содержательных доминантах. Другой инструмент, который мы считаем важным при работе над трансмедийными историями по мотивам литературной классики, это выявление и анализ ключевых метафор, на которые опирается текст. По мнению исследователей, метафора — это своего рода фильтр. Она «отбирает, выделяет и организует одни, вполне определенные, характеристики главного субъекта и устраняет другие». При этом метафорический перенос может сработать совсем не так, как хотел автор. И тем более не так, как было принято во времена, когда писалось произведение или когда у автора учебника формировалась картина мира.
Другой подход к пониманию роли метафоры — отношение к ней как к «контейнеру эмоций», художественному инструменту, тесно связанному с повседневным опытом и телесными ощущениями человека, помогающему оценивать и объяснять мир. Такое понимание метафоры позволяет нам говорить об эффективности ее использования в учебном процессе. Инновативная метафора, создающая и активирующая абсолютно новые концептуальные связи, разрушает конструкцию кича и запускает процесс творческого взаимодействия читателя с авторским замыслом.
Режиссеры театра и кино используют такой подход давно и успешно, иногда повторяя авторскую метафору в экранизации или постановке, а иногда подбирая аналог. Так, С. Ф. Бондарчук начинает свой знаменитый фильм «Война и мир» (1965–1967) с кадров летящей кометы и прорастающей из семян травы. Комета, семя и трава — метафоры важнейших для Толстого размышлений, касающихся движущих сил истории, жизни отдельных людей, семьи, рода и народа. Максимально компактно они собраны и описаны в эпилоге, где сходятся все нити эпического повествования. Вынося эти метафоры в начало фильма, Бондарчук подчеркивает их доминирующую роль. Вслед за ними в кадре появляются небо и облака как символы вечности. Это почти дословная иллюстрация к эпизоду ранения князя Андрея на поле Аустерлица. То есть режиссер явно нарушает последовательность появления метафор в тексте романа, но не разрушает при этом авторскую логику, потому что и семя, и небо с облаками, как и в тексте Толстого, продолжают выступать камертонами повествования. Но специфическая драматургия кино требует более активной демонстрации этих метафор в начале экранного зрелища.
Иначе начинается американский фильм «Война и мир» (1956). Его первые кадры — крупные планы фрагментов живописных батальных полотен, изображающих эпоху наполеоновских войн. После них зрители видят анимированную карту Европы, а дальше — уходящую из Москвы русскую армию. Эти детали принципиально важны для фильма. Режиссер как будто листает перед глазами зрителей страницы иллюстрированного учебника истории. Фрагменты картин благодаря крупным планам получают дополнительную эмоциональную нагрузку, становятся гротескными. И уже на этом фоне в условных декорациях мы наблюдаем развитие отношений между главными героями. Камертон этих отношений — тоже метафора, желтое платье Наташи Ростовой (в исполнении Одри Хепберн). В романе Наташа однажды появляется в желтом — в ситцевом платье такого цвета видит ее князь Андрей в Отрадном, в толпе бегущих девушек. И цвет, и материал (ситец), и поведение (бег) — все это у Толстого подтверждает укорененность героини в народной культуре и будничность эпизода (ситец использовался преимущественно в повседневной домашней одежде). Здесь платье — указание на радостное, полное жизни мироощущение Наташи. В этом смысле фильм не противоречит авторской идее. Но в фильме Наташа в первых же сценах в желтом платье провожает войска, флиртует с Пьером, т.е. совершает ряд светских ритуальных действий. Яркий солнечный цвет платья — из более дорогого материала — в этом случае воспринимается скорее как желание Наташи привлечь к себе всеобщее внимание.
В спектакле Р. Туминаса «Война и мир» (2021) в театре имени Евгения Вахтангова постановщики выбирают в качестве метафоры жизни длинный зеленый шифоновый шарф, с которым многократно пробегают по сцене дети в доме Ростовых. Он и привлекает внимание к Наташе, и демонстрирует особую демократичность отношений в этой семье. Яркая и неоднозначная, эта метафора позволяет каждому зрителю наполнить ее собственными смыслами. Метафорой совершенно другого масштаба становится фактически единственная декорация спектакля — огромная серая стена, символизирующая все мироустройство, вокруг которого героям приходится выстраивать свои жизни. Она и часть города, и сельский пейзаж, и интерьер господских домов — везде одинаково непроницаемая и подавляющая своей неуязвимостью.
Действуя по предложенной нами методике, школьники могут осуществить работу, аналогичную режиссерской. Используя семиотический анализ текстов, в частности, поиск дополнительных эмоционально-смысловых доминант и небанальных метафор, сквозных нарративов, актуальных для современной литературы, и т.д., школьники, участвовавшие в нашем проекте, пытались выявить в классических литературных текстах важные для себя истории, рассказать их мультимодальным художественным языком и разместить на медиаплатформах.
В следующей главе мы расскажем подробнее о своем опыте работы в рамках этого подхода со школьниками. И постараемся объяснить на примерах, какие преимущества мы в нем видим и почему нам кажется, что предлагаемые принципы возможно и полезно встраивать в традиционный учебный процесс хотя бы периодически.
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса
Мозаика
- 17-19 октября 2018 г. - VIII литературный фестиваль «Открытая книга» в Челябинске
- Новая книга: "Загадки литературы" С.В. Волкова
- 13–15 декабря 2019 г. — Форум «Детская литература как событие»
- 21 ноября 2021 г. – Семинар "Как можно работать с романом "Лавр"?"
- Литература №3-4, 2017
- Задания для 5–7 классов