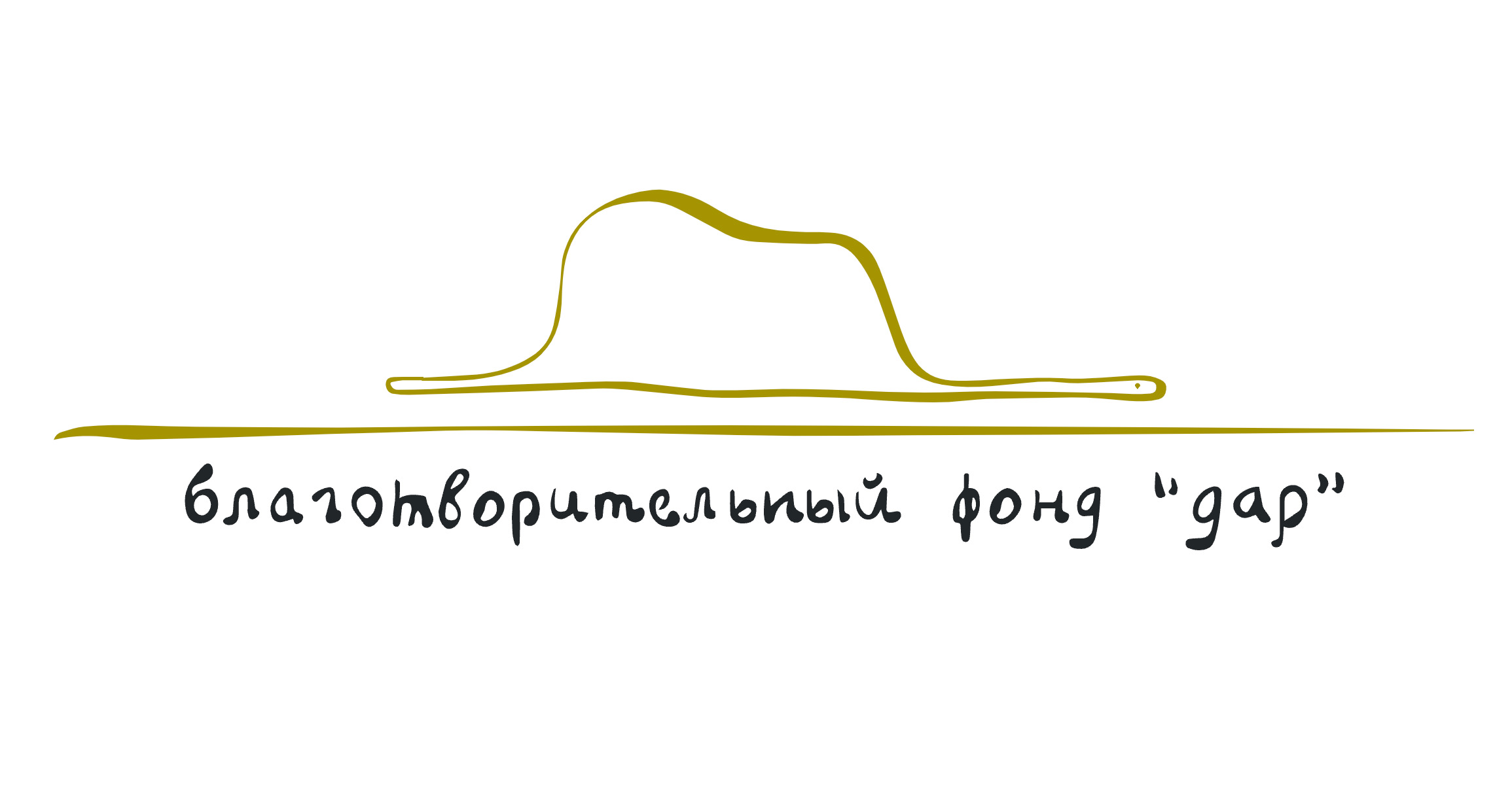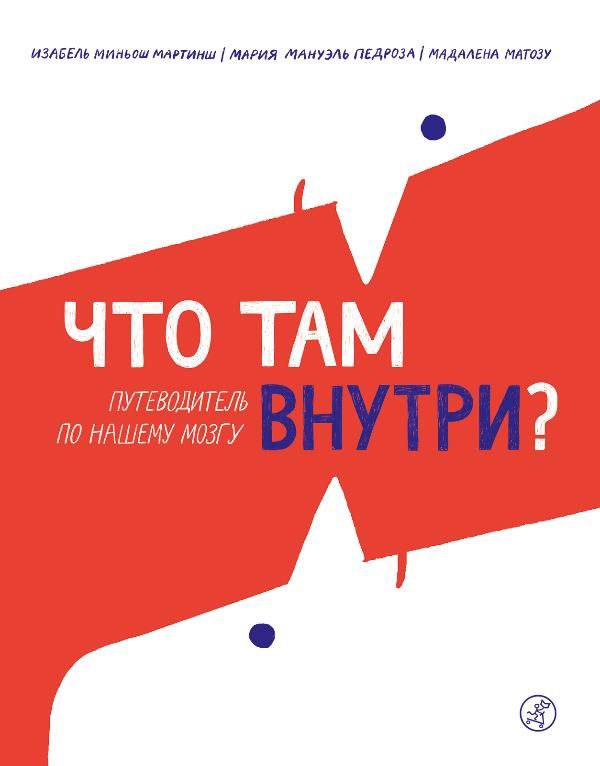Начну издалека, с вашего позволения. Мне кажется, что все беды с ЕГЭ по нашим предметам происходят от того, что «засевшие в башне», какой бы аббревиатурой ее ни назвать, реальной жизни не видят и не понимают совершенно.
Я не склонна к мистике, но посещение Методцентра всегда было для меня чем-то из области кошмарного сна, когда лифты едут наискосок, лестницы заканчиваются глухой стеной, окликнутый в коридоре человек превращается в легкий фиолетовый дымок, и твой собственный крик тонет в вате. Однажды я долго в отчаянии искала 306 кабинет, указанный мне охранником, а его не было. Как потом оказалось, кабинет с табличкой «306» скрывался за другой дверью с надписью «308». Когда я туда все-таки робко заглянула, меня ошарашил громкий окрик: «Вы что не видите, мы еще не завтракали!» И дальше в том же духе. Задаваемые мною вопросы казались «им» совершенно нелепыми, они не сразу понимали и переглядывались растерянно, явно размышляя, не надо ли уже вызывать карету психиатрической скорой помощи. Выдаваемые мне ответы не отвечали на мои вопросы и укрепляли во мне убеждение в собственной ущербности.
Теперь вот новое приключение… В минувшую среду я сдала ЕГЭ по литературе. Мне это не нужно было ни для чего, в нашей школе никого к этому не принуждают. Хотелось почувствовать себя в шкуре. Так вот: этот экзамен ничего кроме физической выносливости и психической устойчивости не проверяет. Я бы порекомендовала его сдавать шоферам дальнобойщикам или рабочим ночных производств. Длительная перегрузка в сложной психологической обстановке.
Но начну с начала. В назначенной аудитории нас встретила «доброжелательная» дама с непроницаемым лицом. На меня она смотрела как на буйнопомешанного или заразного больного. Я забыла в рюкзаке паспорт. На лице и в тоне дамы отразилось, не побоюсь этого слова, злорадство: без паспорта нельзя. Если бы я была школьником, я тут же впала бы в панику – выхода мне предложено не было. Фраза типа: не волнуйтесь, время еще есть, вернитесь за ним, пожалуйста, – спасла бы положение. Но я не школьник, конечно. Я старая тетка советской закалки, привыкшая к такому отношению в магазинах, роддомах и поездах дальнего следования.
Пятнадцать минут ушло на инструктирование. Сначала живая тетенька с фальшивым механическим голосом прочитала инструкцию вслух и пожелала всем успеха, а затем все то же самое произнес голос с экрана. После чего мне выдали конверт, который надо было вскрыть по перфораторной линии. Покрутив конверт со всех сторон и понюхав его, я поняла, что линии нет, и минуты две ковыряла на славу заклеенное бумажное изделие, чтобы извлечь из него экзаменационные материалы. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: ничего такого, чего бы я не знала, там нет. Совершенно успокоившись, я приступила к заполнению теста. Но один вопрос вывел-таки меня из состояния равновесия. Было предложено определить, какую книгу читает каждый из трех персонажей: Николай Петрович, Аркадий и… Фенечка. Убей меня, не помню, чтобы означенная молодая женщина что-нибудь читала. (Никто из моих коллег по кафедре в школе, кстати, тоже не вспомнил). «Отцов и детей» я сейчас прохожу с 10-ым и читаю его вслух трижды в неделю (надо ли говорить, что это не впервые в жизни), знать его лучше, кажется, нельзя. Из названий и авторов, которых я помнила, было выбрано два: Бюхнер «Stoff und Kraft» и Пушкин «Цыганы». А вот теперь засада: как мы помним, эпизод с названными книжками выглядит так: Аркадий забирает у отца «Цыган» и вручает ему Бюхнера. Не помню, где сказано, что Николай Петрович действительно читает немца, но не сказано и обратное. Нигде не сказано, что немецкую книжку читает Аркадий, но мы догадываемся, что он ее читал. Как бы вы ответили на такой коварный вопрос? Я отнесла «Цыган» к Николаю Петровичу, немца к Аркадию, а для Фенечки методом тыка выбрала какую-то книжку второсортного автора 19 века. Забыла, кого именно. А теперь вопрос к уважаемому сообществу: что проверили или хотели проверить в данном случае? Да, конечно, никто не спорит, что каждая деталь в классической книге важна и на своем месте, но многие детали, произведя на читающего свое действие, поглощаются общей картиной. Как если бы лицезреющего живописное полотно спросили: какой мазок находится в правом верхнем углу на расстоянии 15 см. от верхнего края и 14 см. от правого?
Дальше я начала строчить, как пулемет, и строчила, не приходя в сознание, ровно до задания номер 15. Двух листов серой бумаги, исписанных с двух сторон, мне не хватило на все написанное в течение четырех часов. Когда они кончились, я встала и пошла за чистым листком, но взглянув на тетеньку, поняла, что путь к ней заминирован: на лице служительницы был неподдельный ужас, и рот открылся в немом крике. Забегая вперед, скажу, что иезуистская история с дополнительным листочком для чистовика выглядела следующим образом: я делала судорожный знак рукой, тетенька с выражением: ну вот, так и знала! – приносила лист и в течение двух минут вдумчиво заполняла его, потом я силилась вспомнить, что я собиралась написать после какого-нибудь оборванного «ко» или «под», и пантомима повторялась снова. И так шесть раз! Что за странная экономия, почему, если я должна написать пять сочинений за экзамен, мне дают только два листа бумаги?
Пока строчила первые два «развернутых ответа» заметила странное: в таком режиме на ум идут только клишированные усредненные фразочки, а моя личность меня покинула и прохлаждается в каких-то райских кущах. Попыталась на секунду представить себе, что пишу в «Методическую копилку», но рука хватанула воздух: «собственный стиль» куда-то девался.
Теперь снова, внимание, вопрос: откуда средний школьник может знать поэта Константина Ваншенкина? В моем детстве и в моей юности песню «Я люблю тебя, жизнь» слышал, конечно, каждый, но многие ли знали, что автор слов Ваншенкин? Сейчас в школе его не проходят, в кодификаторе он не значится. Строча о Ваншенкине, позволила себе хулиганскую выходку: выразила надежду, что среди упомянутых солдат, «что погибли, тебя защищая» значатся и те, кто пал на полях страшной войны, и те, кто был убит злой волей преступника у власти. Поверьте, я на каждом уроке со всей убедительностью прошу детей не выпендриваться и спрятать свое личное мнение в карман, до того момента, пока они покинут аудиторию. Но если я не удержалась сама, чтобы немножко не плюнуть в ваншенкинский жизнеутверждающий елей, чего хотеть от школьника!? Пора уже перестать видеть на экзамене условного школьника, которому можно безнаказанно приказывать: расскажите, чем вам понравилась (за что вы полюбили) повесть такого-то классика? Понимаю, что ничего нового не скажу, сказав, что очень часто тексты, предложенные, например, на ЕГЭ по русскому языку, отвечая благородному вкусу их составителей, не отвечают общепринятым представлениям о хорошем тексте, так как состоят из набора клише и общих мест.
Дальше из меня снова полилась словесная гадость, и любимый Блок, которого я хотела туда приплести, показался чужим и неприятным, словно был не Блок, а подержанный пластмассовый крокодил. Надо ли говорить, что в таком состоянии Блока я переврала: вместо «Узнаю тебя, жизнь, принимаю» написала «Признаю тебя жизнь…». Кроме того, я не помнила авторской пунктуации, будет ли это тоже считаться фактической ошибкой?
С отдельным сочинением поступила так, как не советовали поступать, когда я была школьницей: взяла «свободную» тему. На секунду зависла, поняла, что если стану писать о «Герое нашего времени» или о женских образах у Некрасова, то стану сама себе противна, и выбрала что-то вроде «Мир глазами ребенка» по одному-двум произведениям отечественной(!) литературы 20-21 века. Спасло меня только то, что я вынуждена по-человечески формулировать, разговаривая с детьми о рассказе Виктора Драгунского «Одна капля убивает лошадь». Из 21 века я выбрала «Класс коррекции» Екатерины Мурашовой. Боюсь теперь, что идеальную структуру со вступлением, заключением и прочими я не выдержала. Времени обдумать то, что я собираюсь написать, у меня не было. Написала, как написалось.
И вот еще интересно: пока выбирала тему, мелькнула мысль о Некрасове. В голове на секунду возникли строки «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…» и т.п. А что, если бы я написала и впрямь не про Арину мать солдатскую или Дарью, которая «стыла в своем зачарованном сне», а вот про этих условных Панаевых? Что было бы?
А откуда взялась эта боязнь «неотечественной» литературы? Опять воспитываем патриотизм таким странным способом? Почему выставлен частокол, отгораживающий нашу отечественную неповторимую литературу от мировой? В чем тут стратегический план? Мы такого низкого мнения о нашей литературе? Мы боимся, что прочитав Диккенса или Ремарка, наш школьник не сумеет оценить Пушкина и Достоевского? Читая Стендаля, например, мы видим огромное количество точек соприкосновения, которые не могут рассматриваться в плане конкуренции за пальму первенства, а только расширяют горизонты и обогащают понимание и того, и другого. На одном из недавних уроков я говорила детям о предпочтении, которое отдает Жюльен Сорель внешнему, не замечая внутреннего. Ему важно, - говорила я, - возвыситься, но возвыситься не в своей душе, а возвыситься в мире, не допустить унижения, добиться любой ценой высокого положения, уважения и определенной славы. Он смотрит на самого себя чужими глазами, абсолютно игнорируя происходящее внутри него самого, борясь с ним. Он не думает о том, каким он хочет быть по сути: добрым или злым, искренним или фальшивым, честным или бесчестным, а только о том, кем он представится окружающим. И говоря это, я поняла, что то же самое можно сказать и об Онегине, и с точностью до наоборот об Обломове, и о других героях русской литературы.
На перемене я рассказывала своим семиклассникам об экзамене. Когда назвала тему сочинения «Мир глазами ребенка», со всех сторон посыпались вопросы-предположения: Вы писали о «Чуде»? О «Дающем»? О «Шоколадной войне»? О «Битвах по средам»? Нет, дети! Там было ограничение – отечественная литература!
Я не удержалась и в сочинении добавила, что планка сегодняшнего серьезного разговора с подростком о мире, в котором нет искусственного разделения на «детские» и «взрослые» темы, задана многими переводными книжками, вышедшими в издательствах «Самокат» и «Розовый жираф», например, «Oh, boy!» Мари-Од Мюрай, или «Остров в море» Анники Тор.
И ведь я не школьник. Я закончила отделение критики Литературного института, писать литературоведческие тексты – моя профессия, я практикуюсь в этом занятии едва ли не ежедневно, меня мало волнует результат, к хамству и равнодушию я привыкла. А каково этому школьнику, который хочет выражать свои мысли по-человечески и видит перед собой не строки сомнительного учебника, а текст и пытается анализировать его, не повторяя чужих благоглупостей? Каково было моей внучке Дуне, которая заработала чуть больше шестидесяти баллов? Она очень умная и способная девочка, но медлительная и не очень выносливая, подверженная приступам паники в ситуации экзамена.
Весь прошлый год я занималась с девочкой-художницей, которой надо было сдавать ЕГЭ по литературе. Это был совершенно не вербальный ребенок. Умный, хорошо понимающий и чувствующий текст, но выражающий себя гораздо лучше в линии и цвете, чем в словах. Я рассказывала ей о литературе и «поворачивала» пройденный ею в школе по шаблонам текст его живыми сторонами. Она очень радовалась таким открытиям. И так как девочка была старательная и база у нее была, она научилась очень бойко строчить шаблонные сочинения просто по отмашке, как дрессированная собака. Получила 85 баллов. Что очень неплохо в ее ситуации. Я вот теперь думаю, сколько времени понадобиться, чтобы отучить таких, как она, строчить по шаблону. Ведь все тексты ЕГЭ по русскому и по литературе требуют шаблона, задуманы по шаблону, проверяют шаблон.
Я не знаю, откуда берутся стобалльники. Разве что только из сострадания и человеколюбия проверяющих. Написать столько за четыре часа хорошим литературным языком невозможно. Я закончила за две минуты до истечения срока экзамена (это единственное порадовало: на экране была строка с обратным счетом, на ней видно, сколько осталось до конца).
На уроках с 11-ым классом говорили о рассказе Бунина «Легкое дыхание». Для меня самой явилась объяснением и почти откровением статья Выготского об этом рассказе, где он говорит, что форма борется с жизненным материалом, положенным в его основу, что тот воздух, который в нем нагнетается, это разлитое во всем «легкое дыхание» претворяет «жизненную муть» в возвышенный рассказ о том, что одухотворенность жизни не перечеркивается грязными или пошлыми ее подробностями и т.п. И вот я стала читать эту статью детям, предвкушая, как сейчас и для них все в Бунине прояснится и станет понятным (потому что точно так же устроены прочитанные нами рассказы «Ида», «Руся», «Солнечный удар» и др.). И тут сюрпри-и-и-з: дети этой очевидной для меня «легкости» в «Легком дыхании» не увидели. И все, весь разговор увяз в этом. Не стану же я, в самом деле, командовать: так, быстро собственное отношение отключили, записывай и запоминай, что говорит учитель и что надо потом выдать на экзамене. Утешает только, что впереди «Гранатовый браслет», где речь пойдет почти о том же при совершенно другом способе подачи «материала». Как же можно предсказать и проверить, как сработает человеческая индивидуальность в каждом конкретном случае на ЕГЭ по литературе?
За ЕГЭ я получила 93 балла. Один балл потеряла в тестовой части, потому что умудрилась не заметить, что после 13 есть еще 14 задание. Ответа не него у меня в бланке нет. И еще 3 (2 и 1) за задание 16. Видимо, второй пример из Евтушенко показался проверяющим не соответствующим теме. По зрелом размышлении, пожалуй, верно. Меня это тоже смутно беспокоило, но в условиях цейтнота я просто уже не успевала искать что-то более адекватное. Этот второй пример был таким вынужденным выдохом после надолго задержанного дыхания. И как показывает ситуация, мне бы не хватило времени на последнее сочинение, если бы я задержалась на поиск чего-то более подходящего. У меня был вариант «С хвостом годов я становлюсь подобием / чудовищ ископаемо-хвостатых… / Товарищ жизнь, давай скорей протопаем, / Протопаем по пятилетке дней остаток», который явно звучит в противоположной тональности по отношению к «Я люблю тебя, жизнь!»
Мне кажется, что серьезный, в рамках реальности разговор об экзаменах ЕГЭ назрел. Среди моих знакомых нет учителей, которые были бы удовлетворены этим экзаменом. Среди моих знакомых нет не думающих, преподающих по методичкам и (самое главное!) не работающих сегодня в школе учителей. Они видят не абстрактного ученика, который с неизмененной психикой выйдет из этого испытания, они видят настоящих живых детей, которые часто возмущаются ситуацией «шаг влево приравнивается к побегу» и которым твердить все время «не выпендривайся, будь как все» просто преступно и непрофессионально.
Варианты экзаменационной работы можно обсуждать. В последнее время мне очень интересными представляются задания, предложенные на Всероссийской олимпиаде по литературе, особенно касающиеся анализа текста. Во-первых, это возможность выбора между прозаическим и поэтическим текстом. Приходится видеть, что есть дети, которым во много раз комфортнее анализировать стихи, чем прозу, и наоборот. Во-вторых, это сокращение объема экзамена и возможность размышлять над текстом, а не выдавать затверженные домашние заготовки. В-третьих, просто душеполезное занятие. Если необходимо унифицировать проверку, то ведь существует невредный «план анализа», который мы даем детям как памятку, о чем не забыть, подумать и сказать. И существуют внятные критерии проверки олимпиадных работ. И самое главное, такое ощущение, что олимпиаду придумывают те, кто часто видит реальных детей. Те, кто не боится, что текст окажется не самого высшего сорта, и вероятно, предполагает, что вдумчивый читатель заметит его несовершенство и скажет об этом.
Во всяком случае, разговор назрел, и нужно вывести его из кабинетов с закрытыми в мир дверями на обозрение практикующим учителям. И не зомбированным, каким-то специально подготовленным, а выбранным случайно.
Автор: Дарья Вильямовна Николаева
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Навигация
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса
Мозаика
- 2 июля 2024 – Тренинг «Пространство и тело: что роднит музейную и театральную педагогику»
- 27 ноября 2025 – Занятие Школы гуманитария ПСТГУ «Гомер и Библия — два корня европейской культуры» для 9-11 классников (онлайн)
- 6 апреля 2021 г. — Занятие в Школе юного филолога НИУ ВШЭ "Как читать ранний русский киноплакат?"
- Список летнего чтения для 7 класса
- О городах и домах. Выпуск №45
- На той стороне Луны, или Как живется школьной олимпиаде по литературе