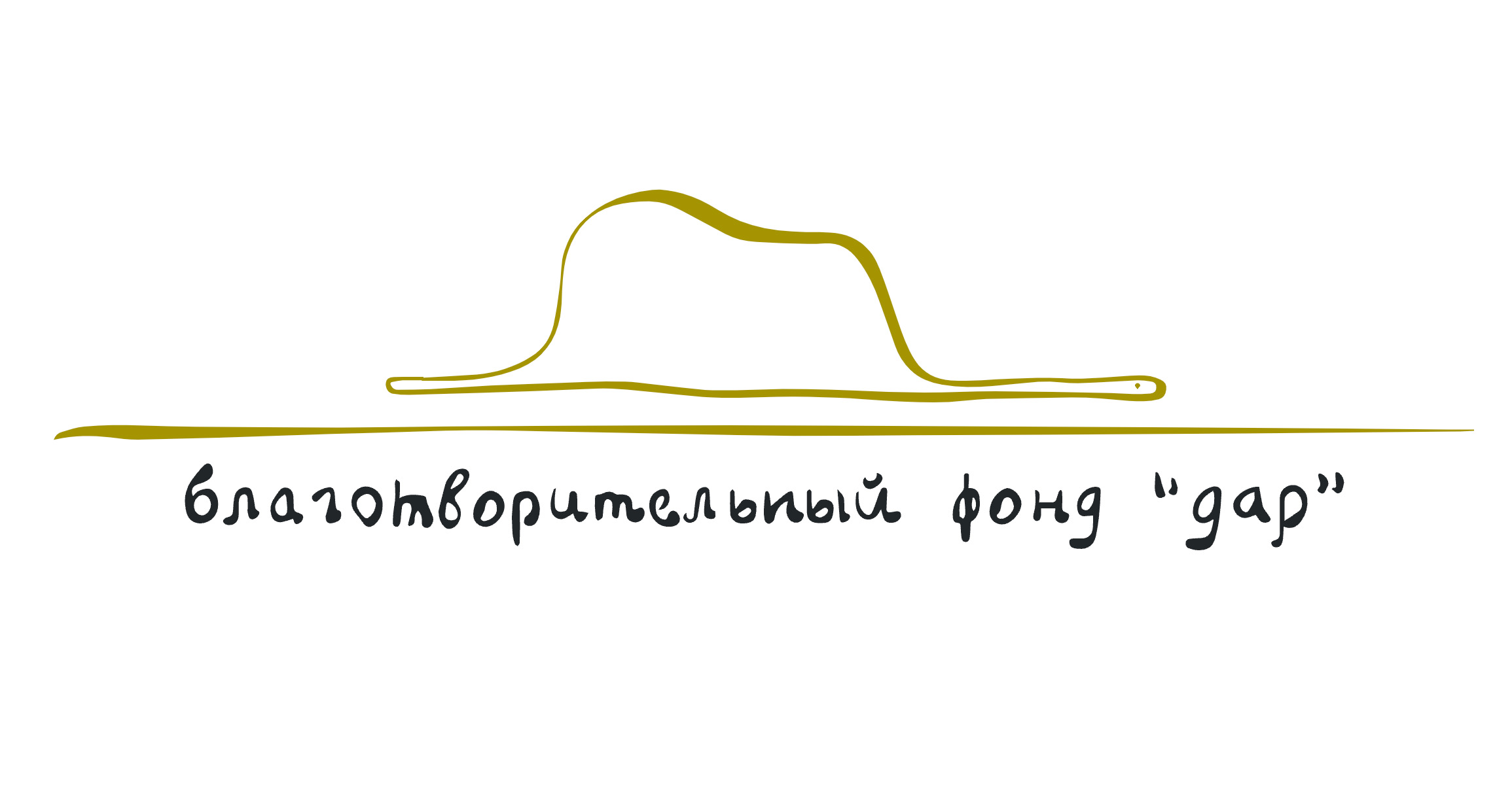А. С. Пушкин
В зеркале критики Серебряного века
В. С. Соловьев (1853-1900) Судьба Пушкина↓
И. Ф. Анненский (1855-1909) Пушкин и Царское Село↓
В. Я. Брюсов (1873-1924) «Медный Всадник»↓
В. Ф. Ходасевич(1886-1939) Петербургские повести Пушкина↓
М. О. Гершензон (1869-1925) Мудрость Пушкина↓
С. Л. Франк (1877-1950) Светлая печаль↓
И. А. Ильин (1883-1954) Пророческое призвание Пушкина↓
С. Н. Булгаков (1871-1944) Жребий Пушкина↓
Г. В. Адамович (1892-1972) Пушкин↓
П. Б. Струве (1870-1944) Дух и слово Пушкина↓
М. И. Цветаева (1892-1941) Пушкин и Пугачев↓
А. А. Ахматова (1889-1966) «Каменный гость» Пушкина»↓
В. С. Соловьев (1853-1900)
Судьба Пушкина
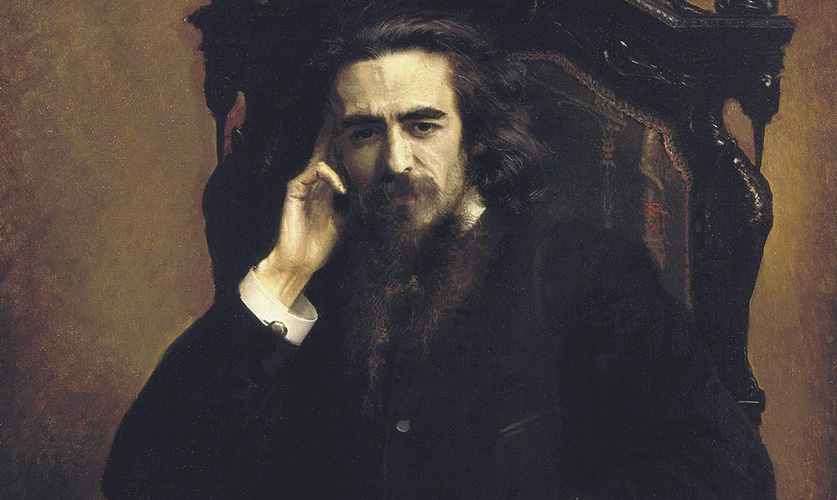
<…> В Пушкине, по его собственному свидетельству, были два различные и несвязные между собою существа: вдохновенный жрец Аполлона и ничтожнейший из ничтожных детей мира. Высшее существо выступило в нем не сразу, его поэтический гений обнаруживался постепенно. В ранних его произведениях мы видим игру остроумия и формального стихотворческого дарования, легкие отражения житейских и литературных впечатлений. Сам он характеризует такое творчество, как «изнеженные звуки безумства, лени и страстей». Но в легкомысленном юноше быстро вырастал великий поэт, и скоро он стал теснить «ничтожное дитя мира». Под тридцать лет решительно обозначается у Пушкина «смутное влеченье чего-то жаждущей души», – неудовлетворенность игрою темных страстей и ее светлыми отражениями в легких образах и нежных звуках. «Познал он глас иных желаний, познал он новую печаль». Он понял, что «служенье муз не терпит суеты», что «прекрасное должно быть величаво», т. е. что красота, прежде чем быть приятною, должна быть достойною, что красота есть только ощутительная форма добра и истины. <…>
Светлый ум Пушкина хорошо понимал, чего от него требовали его высшее призвание и христианские убеждения; он знал, что должно делать, но он все более и более отдавался страсти оскорбленного самолюбия с ее ложным стыдом и злобною мстительностью. <…>
Поэзия сама по себе не есть ни добро, ни зло: она есть цветение и сияние духовных сил – добрых, или злых. У ада есть свой мимолетный цвет и свое обманчивое сияние. Поэзия Пушкина не была и не могла быть таким цветом и сиянием ада, а сохранить и возвести на новую высоту добрый смысл своей поэзии он уже не мог бы, так как ему пришлось бы всю душу свою положить на внутреннее нравственное примирение с потерянным в кровавом деле добром. Не то, чтобы дело дуэли само по себе было таким ужасным злом. Оно может быть извинительно для многих, оно могло быть извинительно для самого Пушкина в пору ранней юности. Но для Пушкина 1837 г., для автора «Пророка», убийство личного врага, хотя бы на дуэли, было бы нравственною катастрофою, последствия которой не могли бы быть исправлены «между прочим», в свободное от литературных занятий время, – для восстановления духовного равновесия потребовалась бы вся жизнь. <…>
1897
И. Ф. Анненский (1855-1909)
Пушкин и Царское Село

<…> Если на его лире, бесконечно видоизменяясь, никогда не смолкали «те гимны важные, внушенные богами...» и если слова Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво» — истинное поэтическое признание, то за юношескими впечатлениями поэта в Царском Селе должна утвердиться их настоящая ценность.
Именно здесь, в этих гармонических чередованиях тени и блеска: лазури и золота; воды, зелени и мрамора; старины и жизни; в этом изящном сочетании природы с искусством Пушкин еще на пороге юношеского возраста мог найти все элементы той строгой красоты, которой он остался навсегда верен и в очертаниях образов, и в естественности переходов, и в изяществе контрастов (сравните их хотя бы с прославленными державинскими), и даже в строгости ритмов (например, в пятистопных ямбах «Бориса Годунова», где однообразная и величавая плавность достигается строгим соблюдением диерезы после четвертого слога).
Вы скажете: он видел после Кавказ, море, степи. Не обесценивая впечатлений южного периода, я позволил бы себе заметить, что Пушкин любовался грандиозными картинами гор и волн после того, как глаз его воспитался на спокойно и изящно-величавых контурах Царскосельских садов. Этого мало: в Царском Селе поэта окружали памятники нашего недавнего прошлого, в нем еще жил своей грандиозной и блестящей красотой наш восемнадцатый век, и Пушкин должен был тем живее чувствовать славу и обаяние недавних подвигов русского оружия, что его первые царскосельские годы совпали с событиями Отечественной войны. Не отсюда ли, не из этих ли садов, не от этих ли памятников, простых и строгих, но много говоривших сердцу впечатлительного юноши, идут те величавые образы, которые так бесконечно разнообразны на страницах его поэзии? <…>
Еще в "Воспоминаниях в Царском Селе" (1815) поэт изобразил два памятника: великолепный — Орловский, а рядом
В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой
— в честь победителя при Кагуле, Румянцева.
В этом сочетании нельзя ли видеть первого намека, первого эскиза для тех грандиозных образов, которые позже Пушкин облек: один — чертами Кутузова, другой — Барклая де Толли?
Не здесь ли Пушкина стали волновать впервые идеи исторической правды и возмездия? Не от спокойных ли гранитов Царскосельского сада шла мысль поэта, которая вылилась потом в великодушный призыв к оправданию развенчанной тени Наполеона?
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Не здесь ли Пушкин вообще получил вкус к историческим занятиям, эту склонность, столь определительную для всей его литературной деятельности?
Оставаясь в области лиризма, мы найдем, что именно в Царском Селе, в этом парке "воспоминаний" по преимуществу, в душе Пушкина должна была впервые развиться наклонность к поэтической форме воспоминаний, а Пушкин и позже всегда особенно любил этот душевный настрой. <…>
1899
В.В.Розанов
Пушкин

<…> У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоят сын и отец в «Скупом рыцаре»; входящий к Альберту еврей есть еще контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Моцарт – в таком же между собою отношении взаимного отрицания. <…> Мир был для Пушкина необозримым пантеоном, полным божеского и богов, однако, везде в контрасте друг с другом, и везде – без вечного, которому-нибудь поклонения. Это и делает абсолютным его, но без абсолютного в нем кроме одного искания бестрепетной правды во всем, что занимало его ум. Вечный гений – среди преходящих вещей.
«Преходящими вещами» и остались для Пушкина все чужеродные идеалы. Они не отвергнуты, не опрокинуты. Нет, они все стоят на месте, и через поэзию Пушкина исторгают у нас слезы. Отсюда огромное воспитывающее и образующее значение Пушкина. Это – европейская школа для нас, заменяющая обширное путешествие и обширные библиотеки. Но дело в том, что сам Пушкин не сложил своих костей на чужом кладбище, но, помолившись, вернулся на родину цел и невредим. < …> Он ни в чем не был напряжен. И... с Байроном он был Байрон; с Ариной Родионовной – угадчик ее души, смиренный записыватель ее рассказов; и когда пришлось писать "Историю села Горюхина", писал ее как подлинный горюхинец. Универсален и прост, но всегда и во всем; без швов в себе; без «разочарований» и переломов. В самом деле, не уметь разочаровываться, а уметь только очаровывать – замечательная черта положительности. <…>
Обращаясь к императору Николаю, он говорил:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни,
Но правдой он привлек сердца;
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий,
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье.
Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен,
Как он – неутомим и тверд
И памятью, как он, незлобен.
Этой твердости и спокойствия тона не было у Жуковского, не было у нервно-капризного Грибоедова. Из этого трезво спокойного настроения его души вытекли внешние хлопоты его об основании журнала: его черновые наброски в самом деле все представляют собою как бы подготовительный материал для журнала; из них некоторые в тоне и содержании суть передовые статьи первоклассного публициста, другие суть критические статьи, и последние всегда большей зрелости и содержательности, чем у Белинского.
Появление «Современника» в формате, сохранившемся до минуты закрытия этого журнала, самым именем своим свидетельствует о крайней жадности Пушкина применить свой трезвый гений к обсуждению и разрешению текущих жизненных вопросов. Так из поэта и философа вырастал и уже вырос гражданин. <…>
С достаточным правом во всяком случае можно предполагать, что если бы Пушкин прожил еще десять-двадцать лет, – то плеяда талантов, которых в русской литературе вызвал его гений, соединилась бы под его руководством в этом широко и задолго задуманном журнале. И история нашего развития общественного была бы вероятно иная, направилась бы иными путями. Гоголь, Лермонтов, Белинский, Герцен, Хомяков, позднее Достоевский пошли вразброд. Между ними раскололось и общество. Все последующие, после Пушкина, русские умы были более, чем он, фанатичны и самовластны, были как-то неприятно партийны, очевидно, не справляясь с задачами времени своего, с вопросами ума своего, не умея устоять против увлечений. Можно почти с уверенностью сказать, что проживи Пушкин дольше, в нашей литературе, вероятно, вовсе не было бы спора между западниками и славянофилами, в той резкой форме, как он происходил, потому что авторитет Пушкина в его литературном поколении был громаден, а этот спор между европейским Западом и Восточной Русью в Пушкине был уже кончен, когда он вступил на поприще журналиста. <…>
В. Я. Брюсов (1873-1924)
«Медный Всадник»

<…> «Вступление» после картины современного Пушкину Петербурга, прямо названного «творением Петра», заканчивается торжественным призывом к стихиям – примириться со своим поражением и со своим пленом.
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия:
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут...
Но Пушкин чувствовал, что исторический Петр, как ни преувеличивать его обаяние, все же останется только человеком. Порою из-под облика полубога будет неизбежно выступать облик просто «человека высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, который, облокотясь на стол, читает гамбургские газеты» («Арап Петра Великого»). И вот, чтобы сделать своего героя чистым воплощением самодержавной мощи, чтобы и во внешнем отличить его ото всех людей, Пушкин переносит действие своей повести на сто лет вперед («Прошло сто лет...») и заменяет самого Петра – его изваянием, его идеальным образом. Герой повести – не тот Петр, который задумывал «грозить Шведу» и звать к себе «в гости все флаги», но «Медный Всадник», «горделивый истукан» и прежде всего «кумир». Именно «кумиром», т. е. чем-то обожествленным, всего охотнее и называет сам Пушкин памятник Петра. /Выражение «гигант» не принадлежит Пушкину; это - поправка Жуковского. (Примеч. В. Я. Брюсова.)/
Во всех сценах повести, где является «Медный Всадник», изображен он как существо высшее, не знающее себе ничего равного. На своем бронзовом коне он всегда стоит «в вышине»; он один остается спокойным в час всеобщего бедствия, когда кругом «все опустело», «все побежало», все «в трепете». Когда этот Медный Всадник скачет, раздается «тяжелый топот2, подобный «грома грохотанью», и вся мостовая потрясена этим скаканьем, которому поэт долго выбирал подходящее определение – «тяжело-мерное», «далеко-звонкое», «тяжело-звонкое». Говоря об этом кумире, высящемся над огражденною скалою, Пушкин, всегда столь сдержанный, не останавливается перед самыми смелыми эпитетами: это – и «властелин Судьбы», и «державец полумира», и (в черновых набросках) «страшный царь», «мощный царь», «муж Судьбы», «владыка полумира».
Высшей силы это обожествление Петра достигает в тех стихах, где Пушкин, забыв на время своего Евгения, сам задумывается над смыслом подвига, совершенного Петром:
О, мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Образ Петра преувеличен здесь до последних пределов. Это уже не только победитель стихий, это воистину «властелин Судьбы». Своей «роковой волей» направляет он жизнь целого народа. Железной уздой удерживает он Россию на краю бездны, в которую она уже готова была рухнуть /Мы понимаем это место так: Россия, стремительно несясь вперед по неверному пути, готова была рухнуть в бездну. Ее «седок», Петр, вовремя, над самой бездной, поднял ее на дыбы и тем спас. Таким образом, в этих стихах мы видим оправдание Петра и его дела. Другое понимание этих стихов, толкующее мысль Пушкина как упрек Петру, который так поднял на дыбы Россию, что ей осталось «опустить копыта» только в бездне, – кажется нам произвольным. Отметим кстати, что во всех подлинных рукописях читается «поднял на дыбы», а не «вздернул на дыбы» (как до сих пор печаталось и печатается во всех изданиях). (Примеч. В. Я. Брюсова.)/. И сам поэт, охваченный ужасом перед этой сверхчеловеческой мощью, не умеет ответить себе, кто же это перед ним.
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
.......................................
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
Таков первый герой «петербургской повести»: Петр, Медный Всадник, полубог. Пушкин позаботился, чтобы второй герой, «бедный, бедный мой Евгений», был истинною ему противоположностью. <…>
1909
В. Ф. Ходасевич(1886-1939)
Петербургские повести Пушкина

<…> Силы неведомые, нежданные и враждебные не дают жизни простых и смирных людей течь беспрепятственно. Они непрошено вторгаются в эту жизнь, как кто-то, нанявшийся в кухарки к коломенской вдове; они врываются, как Варфоломей ворвался в уединенный домик на Васильевском; они рушат и сносят все на своем пути, как воды, разрушившие домик Параши и ее матери. Таков внутренний, основной параллелизм всех этих повестей, теперь уже не двух, а трех. Борьба человека с неведомыми и враждебными силами, лежащими вне доступного ему поля действий, и составляет фабулу как «Уединенного домика на Васильевском», так и «Домика в Коломне» и «Медного Всадника».
«Медный Всадник» – апофеоз Петра. Но в глазах Пушкина великое и прекрасное в Петре сочеталось с ужасным:
...Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как Божия гроза.
(«Полтава»)
Так и в момент создания «Медного Всадника» Пушкин понимал, что все-таки царь Петр есть гений, душa того бедствия, которое стряслось над Евгением. Знал он и то, что, олицетворяя ужас в Петре, он в известном смысле делает трагедию «бедного Евгения» трагедией всей России. Поэтому правы те, кто, начиная еще с Белинского, придает «Медному Всаднику» смысл трагедии национальной. Такого смысла не упускал из виду и сам Пушкин, особенно в первой половине вступления и в словах второй части:
О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Но этот смысл повести – не единственный. Он лишь тесно прирос к другому, мною уже указанному, ради которого и подчеркнут не только несокрушимый, «медный», но и фантастический, страшный, демонский лик Петра. Но то, что для Пушкина было и прекрасно, и ужасно, для Евгения было только ужасно. То, на что спокойно мог смотреть Пушкин, было нестерпимо глазам Евгения. Он видел только демонический лик Петра. Ему казалось, что царь над волнами высится как их глава, как страшный и неподвижный предводитель демонов. И снова: «Ужасен он в окрестной мгле!» И не разберешь, усмиряет ли демонов его «простертая рука» – или их возбуждает, ведет на приступ. <…>
Что касается внутреннего соотношения повестей, то оно может быть установлено следующим образом. Основание всей группы – «Уединенный домик на Васильевском». Основная тема – столкновение человека с темными силами, его окружающими. Подарив «Уединенный домик» Титову, Пушкин отнесся к повести как к первоначальному, еще хаотическому, черновому замыслу. Расчленение этого хаоса привело поэта к созданию «Домика в Коломне» – повести, в которой возникшее столкновение разрешено комически, с победой на стороне человека. «Медный Всадник», как и сам «Уединенный домик на Васильевском», служит примером разрешения трагического. Однако и в «Уединенном домике на Васильевском», и в «Домике в Коломне», и в «Медном Всаднике» инициатива столкновения принадлежит темным силам. Продолжая расчленение основной темы, Пушкин впоследствии дает пример обратной возможности, то есть случая, когда инициатива конфликта принадлежит самому человеку: таким примером служит «Пиковая Дама». Здесь следует еще подчеркнуть, что трагическое разрешение конфликта объединительно выражено и здесь точно в такой же форме, как в двух предыдущих случаях: главный герой повести, Германн, сходит с ума. <…>
Итак, и Павла, и Евгения, и Германна, вступивших в сознательную борьбу с «чертями», которым «охота вмешиваться в людские дела», постигла одна и та же прискорбная участь. Только вдова из «Домика в Коломне» благополучно выдержала натиск темных сил. Но она и не думала с ними бороться как с дьяволами. Того, кто забрался к ней в дом, сочла она вором, не больше. Она его обессилила внезапным разоблачением – и «вор» бежал, как бежал Варфоломей, хотя и слишком поздно, но тоже разоблаченный Верой. Едва ли мы ошибемся, если скажем, что последний вывод из пушкинских петербургских повестей таков: возводя черта на слишком высокую ступень или хотя бы только поднимая его до себя, как делали Павел, Евгений и Германн, мы лишь увеличиваем его силу, – и борьба с ним становится для нас невозможной. Дьявол, как тень, слишком скоро перерастает своего господина. Однако для всех, кто мыслит и колеблется, неизбежна участь этих «безумцев бедных». <…>
Тою же осенью 1830 года, там же, в Болдине, почти одновременно с «Домиком в Коломне» написаны «Каменный Гость» и «Гробовщик». Прямая связь между последними двумя произведениями зорко замечена была еще А.С. Искозом в его статье о «Повестях Белкина», хотя и была истолкована несколько иначе. В самом деле: вызов пьяного и глупого гробовщика совершенно тождествен с вызовом Дон Жуана: и тот и другой в порыве дерзости зовут мертвецов к себе на ужин. Мертвецы приходят. Но сознательно дерзкий Жуан погибает: ожившая статуя губит его, как погубил оживший Всадник Евгения. А дерзнувший спьяна, по глупости гробовщик принимает у себя целую толпу мертвых, но потом просыпается – и все оказывается вздором, маревом, сном, и он мирно садится пить чай. <…>
1915
М. О. Гершензон (1869-1925)
Мудрость Пушкина

<…> Мицкевич несомненно был прав, когда назвал «Пророка» Пушкина его автобиографическим признанием. Недаром в «Пророке» рассказ ведется от первого лица; Пушкин никогда не обманывал. Очевидно, в жизни Пушкина был такой опыт внезапного преображения; да иначе откуда он мог узнать последовательный ход и подробности события, столь редкого, столь необычайного? В его рассказе нет ни одного случайного слова, но каждое строго-деловито, конкретно и точно, как в клиническом протоколе. Эти удивительные строки надо читать с суеверным вниманием, чтобы не упустить ни одного признака, потому что то же может случиться с каждым из нас, пусть частично, и тогда важно проверить свой опыт по чужому. Показание Пушкина совершенно лично, и вместе вневременно и универсально; он как бы вырезал на медной доске запись о чуде, которое он сам пережил и которое свершается во все века, которое, например, в конце 1870-х годов превратило Льва Толстого из романиста в пророка.
Уже первое четверостишие ставит меня в тупик: нужно слишком много слов, чтобы раскрыть содержание, заключенное в 15 словах этой строфы. Пушкин свидетельствует, что моменту преображения предшествует некое тайное томление, тоска, беспричинная тревога. Дух жаждет полноты, сам не зная какой, привычный быт утратил очарование, и жизнь кажется пустыней. И вдруг, — помимо личной воли, помимо сознания, непременно вслед за каким-нибудь житейским событием, может быть малым, но глубоко потрясающим напряженные нервы («на перепутьи»), — наступает чудо.
И вот, начинается преображение: ущербное существо постепенно наполняется силою. Кто мог бы подумать, что ранее всего преображаются органы чувств? Но Пушкин определенно свидетельствует: чудо началось с того, что я стал по иному видеть, стал замечать то, что раньше было скрыто от моих взоров, хотя и всечасно пред ними. Затем безмерно стал чуток мой слух; я услыхал невнятные мне дотоле вечно звучащие голоса вещей. Еще прошел срок, и я не узнал своей речи; точно против воли, я стал скрытен в слове, заговорил мудро и осторожно. Только теперь, когда непонятным образом обновлены уже и зрение, и слух, и слово, — только теперь человек ощущает в себе решимость признаться себе самому и исповедовать пред людьми, что он преображен (пылающий уголь вместо сердца). Но и сознав себя, он одну минуту испытывает смертельный ужас, ибо преображением он исторгнут из общежития и противопоставлен ему, как безумный: «Как труп, в пустыне я лежал». Но вот, нахлынул последний вал, — душа исполнилась до края; теперь он знает: это не личная воля его, это Высшая воля стремится широким потоком чрез его дух. Отныне он не будет действовать, ибо дух его полон; его единственным действием станет слово: «Глаголом жги сердца людей». В то время как деятели будут бороться со злом и проводить реформы, он будет, может быть, выкликать: «Lumen coelum, sancta Rosa!» и клич его будет устрашать ущербных, грозя им Страшным судом.
Наконец, последняя форма экстатической полноты — вдохновение поэта. Это полнота перемежающаяся, наступающая внезапно и так же внезапно исчезающая. Человек, всецело погруженный в ущербное бытие, вдруг исполняется силой; жалкий грешник на краткое время становится пророком, и глаголом жжет сердца людей. Эту двойственность Пушкин изобразил в стихотворении «Поэт». Чем вызывается преображение? чей непостижимый призыв вдруг пробуждает спящую душу? — здесь все тайна; Пушкин говорит метафорами: «Аполлон требует поэта», «до слуха коснулся божественный глагол». Но самую полноту он изображает отчетливо, и если собрать воедино черты, которыми Пушкин обрисовал вдохновение, то оно может быть определено, как гармонический бред. <…>
Что́ Пушкин называет «умом», в отличие от рассудка, — тождественно для него с вдохновением: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии». («О вдохновении и восторге», 1824 г.) Здесь весь смысл — в слове: «живейшему»; на нем ударение. Если бы критики, читая «Вакхическую песнь» Пушкина, сумели расслышать главное в ней, — ее экстатический тон, — они не стали бы объяснять слова: «да здравствует разум!» как прославление научного разума. Это стихотворение — гимн вдохновенному разуму, уму-солнцу, которому ясно противопоставляется «ложная мудрость» холодного, расчетливого ума.
Разум порожден остылостью духа (думы по его определению суть «плоды подавленных страстей»). Там, в низинах бытия, где прозябают холодные, разум окреп и вычислил свои мерила, и там пусть царствует, — там его законное место. Но едва вспыхнуло пламя, — личность тем самым изъята из-под власти разума; да не дерзнет же он святотатственно стеснять бушевание страсти. Вот почему Пушкин, страшно сказать, ненавидит просвещение и науку. Для Пушкина просвещение — смертельный яд, потому что оно дисциплинирует стихию в человеческом духе, ставя ее помощью законов под контроль разума, тогда как в его глазах именно свобода этой стихии, ничем не стесненная, есть высшее благо. Вот почему он просвещение, т. е. внутреннее укрощение стихии, приравнивает к внешнему обузданию ее, к деспотизму. Эти два врага, говорит он, всюду подстерегают божественную силу:
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Иль просвещенье, иль тиран;
В «Цыганах» читаем:
Презрев оковы просвещенья,
Алеко волен как они;
и в уста Алеко он влагает такой завет сыну:
Расти на воле, без уроков...
Пускай цыгана бедный внук
Не знает неги просвещенья
И пышной суеты наук.
Сколько усилий было потрачено, чтобы забелить это черное варварство Пушкина! Печатали: «там на страже — Непросвещенье иль тиран», или: «Коварство; злоба и тиран», «Иль самовластье, иль тиран», и в песне Алеко: «Не знает нег и пресыщенья». Но теперь мы знаем, что Пушкин написал именно так. <…>
1919
А. А. Блок (1880-1921)
О назначении поэта (Речь, произнесенная в Доме литераторов на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина)
<…> Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах. Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть наша чернью; чернью вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье; не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно: они люди; это – не особенно лестно; люди – дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена «заботами суетного света».
Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него «пользы», как просто говорит Пушкин; требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца собратьев» и пр.
Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем сметание сора с улиц, дела, которое требуется от поэта. Во-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира. <…>
Однако дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить, общекультурные; его дело – историческое. Поэтому поэт имеет право повторить вслед за Пушкиным:
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Говоря так, Пушкин закреплял за чернью право устанавливать цензуру, ибо полагал, что число олухов не убавится.
Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов; скорее добытая им гармония производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония; никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии.
Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделяя Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал «иной», «тайной» свободы. По-нашему, она «личная»; но для поэта это не только личная свобода:
...Никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья -
Безмолвно утопать в восторгах умиленья -
Вот счастье! Вот права!..
Это оказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же:
Любовь в тайная свобода
Внушили сердцу гимн простой.
Эта тайная свобода, эта прихоть – слово, которое потом всех громче повторил Фет («Безумной прихоти певца!»), – вовсе не личная только свобода, а гораздо большая: она тесно связана с двумя первыми делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытания гармонией людей – в третьем деле, Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах; и эти дела – не личные. <…>
Пушкин умер. Но «для мальчиков не умирают Позы», сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.
Это – предсмертные вздохи Пушкина, и также – вздохи культуры пушкинской поры.
На свете счастья нет, а есть покой и воля. <…>
1921
С. Л. Франк (1877-1950)
Светлая печаль

При всем значении трагизма в творчестве Пушкина, его уяснение представило бы духовный мир Пушкина в искаженной перспективе, если его не дополнить. Глубоко и ясно видя трагизм человеческой жизни, Пушкин, сполна его изведав, ведает и такой глубинный слой духовной жизни, который уже выходит за пределы трагизма и по самому своему существу исполнен покоя и светлой радости. Он находит его в уединении, в тихой сосредоточенности размышления и творчества. Наряду с словами «мятежный», «томление», «мука», «страсть», такие слова, как «уединение», «умиление», «тишина», «дума», «чистый», «светлый», «ясный» составляют основной элемент пушкинского словаря. «В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны». «В уединеньи величавом... творческие думы в душевной зреют глубине». «Для сердца новую вкушаю тишину. В уединении мой своенравный гений познал и тихий труд и жажду размышлений». Ему ведома «светлых мыслей красота». В ушедшей юности ему дороги только «минуты умиленья, младых надежд, сердечной тишины», «жар и нега вдохновенья». «Я знал и труд, и вдохновенье, и сладостно мне было жарких дум уединенное волненье». «Ты вновь со мною, наслажденье, спокойны чувства, ясен ум». Стремление к уединенному созерцанию и наслаждение им проходят через всю жизнь и творчество Пушкина, по большей части символизируясь в культе «пенатов» (или «ларов»).
И в этой области мы тоже находим у Пушкина некое философское обоснование его душевного настроения. Оно дано в его известном «гимне» пенатов («Еще одной высокой, важной песни...»). Здесь Пушкин достигает глубины мистического самосознания. Совершенно несущественно при этом, что мысль его облечена в излюбленную им мифологическую форму античного культа пенатов. Как видно из самого текста стихотворения, это есть только неопределенное, условное обозначение для «таинственных сил», с которыми в тишине уединения соприкасается углубленное самосознание.
Здесь Пушкин находит ясные, проникновенные слова для выражения основного положения мистического опыта, в разных формах, но всегда с одинаковым смыслом выраженного множеством мистиков. Оно состоит в том, что в последней глубине человеческой души для сосредоточенного, отрешенного от внешних впечатлений и волнений самосознания открывается, как говорит св. Франциск Сальский, «уже нечто сверхчеловеческое», горит «искорка» божественного света (Мейстер Экгарт).
Этим последний, глубинный слой человеческого духа отчетливо отмежеван от чисто субъективной – пользуясь словом Ницше, «человеческой, слишком человеческой» – душевной жизни. Философское и религиозное различие между «духом» и «душой» становится отчетливым только на основании этого сознания. <…> Сам Пушкин признает в себе эту двойственность в форме указания на чередование в нем двух разнородных духовных состояний: «Прошла любовь, явилась муза...» и «Пока не требует поэта» и пр. Но столь же характерна их одновременная совместность в нем. Это вносит в его жизнь двойственность, в которой источник и некоторого нравственного несовершенства, и необычайной внутренней просветленности и углубленности. В молодости, в петербургский и кишиневский период жизни он сочетает и разгул буйного веселья, и мучения страстной любви и ревности с почти отшельнически-уединенным созерцанием и нравственным размышлением, плоды которого выражены, например, в «Деревне» и в «Послании к Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет», «Для сердца новую вкушаю тишину» и пр.). Даже последние дни его жизни, перед дуэлью, проникнуты той же двойственностью. В то время, как он кипел в страстных муках оскорбленного самолюбия, написал исступленно-бешеное оскорбительное письмо к Геккерну (основанное к тому же лишь на непроверенном и, как теперь выяснилось, несправедливом подозрении), ставил условием дуэли: «чем кровавее, тем лучше» – в это самое время, по свидетельству Плетнева, «у него было какое-то высокое религиозное настроение. Он говорил о судьбах Промысла и выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем».
Пушкину в течение всей его жизни не удавалось то, что иногда удается и средним людям, менее страстным, чем он: духовное умиротворение практической нравственной жизни, исцеление от душевного мятежа (на это – с излишней суровостью – указал Вл. Соловьев). Как метко сказал Тютчев: «он был богов орган живой, но с кровью в жилах – жаркой кровью». Лишь на смертном одре он достиг последнего, полного нравственного очищения и просветления. <…>
Тишина, гармоничность, неизъяснимая сладость и религиозная просветленность скрытого, глубинного слоя духа Пушкина дают ему, с одной стороны, в силу контраста, возможности особенно отчетливо и напряженно сознавать и трагизм, и суету, и ничтожество человеческой жизни. С другой стороны, окрашивается светлым колоритом само это трагическое сознание. Именно в силу религиозного характера этого глубинного духовного слоя, т. е. сознания его онтологической значительности, Пушкин воспринимает религиозную значительность, святость всяческого творения, всех явлений мира. Поэтическое восприятие красоты – красоты женщины и красоты природы – есть для него одновременно утешающее и просветляющее религиозное сознание. Мятежная эротика Пушкина – один из главных источников его трагического жизнеощущения – имеет тенденцию переливаться в религиозную эротику. Он не может «смотреть на красоту без умиления»; совершенная женская красота есть для него явление чего-то, стоящего «выше мира и страстей», и в ее созерцании он «благоговеет богомольно перед святыней красоты». <…>
Самое трогательное выражение это настроение получает в описании духовного преображения мучительной безответной любви в самоотверженное благоволение: «Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». Это стихотворение, быть может, одно из наиболее нравственно-возвышенных в мировой лирике. В общей символической форме этот основоположный для Пушкина процесс просветления и преображения выражен в стихотворении «Последняя туча рассеянной бури». Этому символическому описанию успокоения и просветления соответствует изумительная по краткости и выразительности формула в описании того же начала в духовной жизни: в одном стихотворном наброске Пушкин высказывает требование, чтобы его душа была всегда «чиста, печальна и покойна». И наконец этот процесс просветления завершается благостным приятием всей трагики жизни. «Все благо... Благословен и день забот, благословен и тьмы приход». <…>
1924
И. А. Ильин (1883-1954)
Пророческое призвание Пушкина

<…> И вот, первое, что мы должны сказать и утвердить о нем, это его русскость, его неотделимость от России, его насыщенность Россией.
Пушкин был живым средоточием русского духа, его истории, его путей, его проблем, его здоровых сил и его больных узлов. Это надо понимать – и исторически, и метафизически.
Но, высказывая это, я не только не имею в виду подтвердить воззрение, высказанное Достоевским в его известной речи, а хотел бы по существу не принять его, отмежеваться от него. <…> Это задание состояло в том, чтобы духовно наполнить и оформить русскую душевную свободу, – и тем оправдать ее религиозно и исторически, и тем указать ей ее пути, и тем заложить основу ее воспитания, и тем пророчески указать русскому народу его жизненную цель.
Вот она, эта цель: жить в глубочайшей цельности и искренности – божественными содержаниями – в совершенной форме...
Кто, кроме Пушкина, мог поднять такое задание? И чем, если не боговдохновенным вдохновением, возможно разрешить его? А Пушкин принял его, разрешил и совершил.
<…> Опасность этой созерцательной свободы состоит в пассивности, в бесплодном наблюдении, в сонливой лени. Чтобы эта опасность не одолела, созерцательность должна быть творческою, а лень – собиранием сил или преддверием вдохновения...
Пушкин всю жизнь предавался внешнему и внутреннему созерцанию, и воспевал «лень»; но чувствовал, что он имел право на эту «лень», ибо вдохновение приходило к нему именно тогда, когда он позволял себе свободно и непринужденно пастись в полях и лугах своего созерцания. И, Боже мой, что это была за «лень»! Чем заполнялась эта «пассивная», «праздна» созерцательность! Какие плоды она давала!
Вот чему он предавался всю жизнь, вот куда его влекла его «кочующая лень», его всежизненное, всероссийское бродяжество:
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья -
Вот счастье! вот права!..
Прав был Аристотель, отстаивая право на досуг для тех, в ком живет свободный дух! Прав был Пушкин, воспевая свободное созерцание и творческое безделие! Он завещал каждому из нас – заслужить себе это право, осмыслить национально-русскую созерцательность творчеством и вдохновением. <…>
Пушкин был весь – игра, весь – творческая легкость, весь – огонь импровизации. Не за это ли друзья его – Жуковский, Вяземский, Дельвиг – прозвали его «Сверчком»? И вот, на протяжении всей своей жизни он учится духовной концентрации, предметному вниманию, сосредоточенному медитированию. Вот что означают его признания:
«Учусь удерживать вниманье долгих дум».
«Иль думы долгие в душе моей питаю».
«И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине».
И на протяжении всей своей жизни он требует от своего импровизаторского дара – совершенной формы. Строгость его требований к себе была неумолимой. Он всегда чувствовал, что он «должен» сказать и чего он «не властен» и «не смеет» сказать. За несколько лет до смерти он пишет о себе: «Прозой пишу я гораздо неправильнее (чем стихами), а говорю еще хуже...»
Итак, вот его завещание русскому народу: гори, играй, импровизируй, но всегда учись сосредоточенному труду и требуй от себя совершенной формы. <…>
1932
С. Н. Булгаков (1871-1944)
Жребий Пушкина

<…> В зависимости от того, как мы уразумеваем Пророка, мы понимаем и всего Пушкина. Если это есть только эстетическая выдумка, одна из тем, которых ищут литераторы, тогда нет великого Пушкина, и нам нечего ныне праздновать. Или же Пушкин описывает здесь то, что с ним самим было, т. е. данное ему видение божественного мира под покровом вещества? Сначала здесь говорится о томлении духовной жажды, которое его гонит в пустыню: уже не Аполлон зовет к своей жертве «ничтожнейшего из детей мира»", но пророчественный дух его призывает, и не к своему собственному вдохновению, но к встрече с шестикрылым серафимом, в страшном образе которого ныне предстает ему Муза. И вот
Моих зениц коснулся он –
Открылись вещие зеницы
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон.
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
За этим следует мистическая смерть и высшее посвящение:
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрое змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал...
И после этого поэт призывается Богом к пророческому служению: «Исполнись волею Моей». В чем же эта воля? «Глаголом жги сердца людей»!
Если бы мы не имели всех других сочинений Пушкина, но перед нами сверкала бы вечными снегами лишь эта одна вершина, мы совершенно ясно могли бы увидеть не только величие его поэтического дара, но и всю высоту его призвания. Таких строк нельзя сочинить, или взять в качестве литературной темы, переложения, да это и не есть переложение. Для пушкинского Пророка нет прямого оригинала в Библии. Только образ угля, которым коснулся уст Пророка серафим, мы имеем в 6-й главе кн. Исаии. Но основное ее содержание, с описанием богоявления в храме, существенно отличается от содержания пушкинского Пророка: у Исаии описывается явление Бога в храме, в Пророке явленная софийность природы. Это совсем разные темы и разные откровения. Однако и здесь мы имеем некое обрезание сердца, Божие призвание к пророческому служению. Тот, кому дано было сказать эти слова о Пророке, и сам ими призван был к пророческому служению. Совершился ли в Пушкине этот перелом, вступил ли он на новый путь, им самим осознанный? Мы не смеем судить здесь, дерзновенно беря на себя суд Божий. Но лишь в свете этого призвания и посвящения можем мы уразумевать дальнейшие судьбы Пушкина. Не подлежит сомнению, что поэтический дар его, вместе с его чудесной прозорливостью, возрастал, насколько он мог еще возрастать, до самого конца его дней. Какого-либо ослабления или упадка в Пушкине как писателе нельзя усмотреть. Однако остается открытым вопрос, можно ли видеть в нем то духовное возрастание, ту растущую напряженность духа, которых естественно было бы ожидать, после 20-х годов, на протяжении 30-х годов его жизни? Не преобладает ли здесь мастерство над духовной напряженностью, искусство над пророчественностью? Не чувствуется ли здесь скорее некоторое духовное изнеможение, в котором находящийся во цвете сил поэт желал бы скрыться в заоблачную келью, хотя и «в соседство Бога», а сердце, которое умело хотеть «жить, чтобы мыслить и страдать», просит «покоя и воли», – «давно, усталый раб, замыслил я побег»? Эту тонкую, почти неуловимую перемену в Пушкине мы хотим понять, чтобы и в этом также от него научиться. <…>
Пророческое творчество в нем, извне столь «аполлиническое», уживается с мрачными безднами трагического дионисизма, сосуществованием двух планов, в которых творчество продолжает свою жизнь преимущественно как писательство. Для многих писателей, если не для большинства, такая двупланность является удовлетворяющим жизненным исходом, духовным обывательством, увенчиваемым музой. Так для многих, но не для Пушкина. Ибо Пушкин был Пушкин, и его жизнь не могла и не должна была благополучно вмещаться в двух раздельных планах. Расплавленная лава страсти легко разрывает тонкую кору призрачного аполлинизма, начинается извержение.
Совершилось смещение духовного центра. Равновесие, необходимое для творчества, было утрачено, и эта утрата лишь прикрывалась его железным самообладанием. Духовный источник творчества иссякал… <…>
1937
Г. В. Адамович (1892-1972)
Пушкин

Пробираясь к Пушкину сквозь давние и порой неизбежно-тягостные школьные впечатления, сквозь тысячи готовых формул насчет «светлой гармонии» или кропотливые труды и нескончаемые распри пушкинистов, ища настоящей встречи с ним, первое, что чувствуешь: несравненная прелесть и трагизм.
Не от поэзии только. Жизнь Пушкина отмечена теми же чертами, и в «Онегине», в последних главах его, одно сливается с другим. Петербург, будто всегда морозный, его царственный «строгий стройный вид» с льдистыми отблесками на невском граните. Пышные балы, «свет» – неуловимое сейчас понятие, с чем-то губительным, леденящем в нем, произносимое Пушкиным и Лермонтовым почти так же, как Байрон говорил «они» о своих безымянных врагах. Наталья Николаевна Гончарова…
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы,
И, верно, согласились б вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.
О ком это написано, кто «сидит у стола»? Татьяна? Образ Татьяны сливается в нашем представлении с образом Натальи Николаевны, – а слова «блестящий», «мраморный», «ослепительный», относящиеся к ее сопернице, действительно слепят глаза. Кстати, не пора ли восстановить «Онегина» в правах как глубочайшее и во всяком случае прекраснейшее создание Пушкина, в согласии со старыми оценками, вразрез с большинством новейших, отводящих первое место «Медному всаднику», маленьким трагедиям, даже «Полтаве»? В «Онегине» есть та крылатая небрежность, та вольная простота, которая дается лишь полной властью над темой, полным в нее проникновением. Брюсов вышел из «Медного всадника», «Онегин» был ему недоступен. Именно в «Онегине» — Россия. Не в том, конечно, дело, что Пушкин в нем изобразил или «отобразил» русское общество, но в том, что впервые уйдя к самым истокам жизни, к влажным, низшим ее пластам, он нашел в себе силы все осветить отблеском поэзии. Прощальный монолог Татьяны... нет, об этом даже нельзя писать, для таких слов нет других слов, не оскорбительных рядом с ними. Все — «ветошь маскарада».
Вместе с тем «Онегин» — едва ли не самая грустная вещь Пушкина, уже проникнутая кое-где тоном «Пора, мой друг, пора...». (Об этом, напомню, есть несколько необыкновенно-прозорливых страниц у Белинского). Удивительно то, что душой, по природе такой здоровой, нетребовательной, ни к каким «неприятиям» несклонной, в сущности даже веселой, смешливой, могла овладеть такая тоска! Ни просвета, ни надежды. Крышка захлопнута, и «от судеб защиты нет» («Цыганы».— Ред.)<…>
Пушкин был лишен ощущения (или, может быть, правильнее сказать, свободен от ощущения) греха и воздаяния, падения и искупления, рая и ада, если угодно – бога и дьявола. Гетевское или шекспировское начало в нем было неизмеримо сильнее дантовского. Из новых поэтов он абсолютно чужд, например, Бодлеру. Ни в напевах пушкинских стихов, ни в завязках и развязках пушкинских замыслов нет ничего, входящего как бы «извне» и куда-то страстно влекущегося. Даже если случится Пушкину набрести на какие-то ультра-романтические звуки, он замыкает их в «вещь», в «стихотворение», как в «О, если правда, что в ночи…» («Заклинание» — Ред.). Пушкина часто сравнивают с ангелом, с небесным явлением, но в том-то и «небесность» его, что он к небу равнодушен.
Один лермонтовский «вздох» уводит нас отсюда за тридевять земель, и в сущности, и Лермонтов, и Гоголь, при всей их формальной связи с Пушкиным, при всей благодарности и благоговении, были как бы безотчетной, но страстной репликой Пушкину, немедленным ему возражением. Гоголь — в особенности. Он будто затем и явился, чтобы сразу отбросить свою чудовищную, гигантскую тень на все, что Пушкин создал, и, сжигая «Мертвые души», он мысленно сжигал и пушкинские «грешные» поэмы. Лермонтов отступился тоже, — и в поисках «незаменимых», «звуков иных», и даже в тревожном психологизме своей прозы, расщепившей пушкинского безмятежно цельного человека пополам. <…>
1937
П. Б. Струве (1870-1944)
Дух и слово Пушкина

<…> Самыми любимыми словами, т. е. обозначениями вещей, событий и людей, у Пушкина оказались прилагательные: ясный и тихий и все производные от этих или им родственные слова.
Еще раньше я в специальном этюде установил значение для Духа, т. е. для мысли и чувства Пушкина, другого понятия: неизъяснимый. Понятие это полярно понятию ясный, как его отрицание. Ясный дух Пушкина смиренно склонялся перед Неизъяснимым в мире, т. е. перед Богом, и в этом смирении ясного человеческого духа перед Неизъяснимым Божественным Бытием и Мировым Смыслом и состоит своеобразная религиозность великого «таинственного певца» Земли Русской.
Но, установив это, естественно было и надлежало пойти дальше. На всем пространстве Пушкинского творчества с его юношеских и до самых зрелых произведений слова: ясный и неизъяснимый, тихий и тишина сопровождают его мысль и чувство. <...>
Затем 1887 год — истекает срок авторского права на сочинения Пушкина, и в миллионах экземпляров его творения растекаются по необъятной русской земле. Если смерть Пушкина была первым раскрытием его величавого образа, а чествование его памяти в связи с освящением памятника было таким вторым раскрытием, то 1887 год знаменует целую эпоху в том процессе, которым Пушкин становился подлинно народным. <…>
Он — живой образ творческой гармонии, он — красота и мера. Есть что-то для русской культуры пророчески-ободряющее, что именно Пушкин, этот спокойный великан, стоит в начале русской подлинно национальной самобытной литературы. <…>
1937
М. И. Цветаева (1892-1941)
Пушкин и Пугачев

<…> Ни одной крупной фигуры Пушкин Пугачеву не противопоставил (а мог бы: поручика Державина, чуть не погибшего от пугачевского дротика; Суворова, целую ночь стерегущего пленного Пугачева). В лучшем случае, другие — хорошие люди. Но когда кого в литературе спасала «хорошесть» и кто когда противостоял чаре силы и силе чары? (Себе в опровержение: однажды спасла и вознесла: отца Савелия, в «Соборянах». Себе же — в подтверждение: но это больше чем литература и больше чем хорошесть, и есть сила, бо'льшая чары — святость.)
В «Капитанской дочке» единственное действующее лицо — Пугачев. Вся вещь оживает при звоне его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши: ну, что-то будет? И что бы ни было: есть Пугачев — мы есьмы.
Пушкинский Пугачев, помимо дани поэта — чаре, поэта — врагу, еще дань эпохе: Романтизму. У Гёте — Гётц, у Шиллера — Карл Моор, у Пушкина — Пугачев. Да, да, эта самая классическая, кристальная и, как вы ее еще называете, проза — чистейший романтизм, кристалл романтизма. Только те своих героев искали и находили либо в дебрях прошлого, этим бесконечно себе задачу облегчая и отдаленностью времен лишая их последнего правдоподобия, либо (Лермонтов, Байрон) — в недрах лирического хаоса, — либо в себе, либо в нигде, Пушкин же своего героя взял и вне себя, и из предшествующего ему поколения (Пугачев по возрасту Пушкину — отец), этим бесконечно себе задачу затрудняя. Но зато: и Карл Моор, и Гётц, и Лара, и Мцыри, и собственный пушкинский Алеко — идеи, в лучшем случае — видения, Пугачев — живой человек. Живой мужик. И этот живой мужик — самый неодолимый из всех романтических героев. Сравнимый только с другим реалистическим героем, праотцем всех романтических: Дон-Кихотом. <…>
Пушкинский Пугачев есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив: «Да, знаю, знаю, все как было и как все было, знаю, что Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания - знать не хочу, этому несвоему, чужому знанию противопоставляю знание — свое. Я лучше знаю. Я лучшее знаю:
Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман.
Обман. «По сему, что поэт есть творитель, еще не наследует, что он лживец, ибо поэтическое вымышление бывает по разуму так — как вещь могла и долженствовала быть» (Тредьяковский).
Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отмел, все забыл, прочистил от них голову как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева. «Историю Пугачевского бунта» он писал для других, «Капитанскую дочку» — для себя.
Пушкинский Пугачев есть поэтическая вольность, как сам поэт есть поэтическая вольность, на поэте отыгрывающаяся от навязчивых образов и навязанных образцов.
Но что же Пушкина заставило, только что Пугачева отписавши, к Пугачеву вернуться, взять в герои именно Пугачева, опять Пугачева, того Пугачева, о котором он всё знал? Именно что не всё, ибо единственное знание поэта о предмете поэту дается через поэзию, очистительную работу поэзии. <…>
1937
А. А. Ахматова (1889-1966)
«Каменный гость» Пушкина»

<…> В самом деле, ведь если бы Дон Гуана убил Дон Карлос, никакой трагедии бы не было, а было бы нечто вроде «Les Marrons du feu» Мюссе, которыми Пушкин так восхищался в 1830 году за отсутствие нравоучения и где донжуановский герой («Mais c’est du don Juan») гибнет случайно и бессмысленно. Пушкинский Дон Гуан гибнет не случайно и не бессмысленно. Статуя Командора — символ возмездия, но если бы еще на кладбище она увлекла с собой Дон Гуана, то тоже еще не было бы трагедии, а скорее театр ужасов или l’Ateista fulminado средневековой мистерии. Гуан не боится смерти. Мы видим, что он нисколько не испугался шпаги Дона Карлоса и даже не подумал о своей возможной гибели. Потому-то Пушкину и нужен поединок с Доном Карлосом, чтобы показать Гуана в деле. Совсем не таким мы видим его в финале трагедии. И вопрос вовсе не в том, что статуя — потустороннее явление: кивок в сцене на кладбище тоже потустороннее явление, на которое, однако, Дон Гуан не обращает должного внимания. Гуан не смерти и не посмертной кары испугался, а потери счастья. Оттого-то его последнее слово: «о Дона Анна!». И Пушкин ставит его в то единственное (по Пушкину) положение, когда гибель ужасает его героя. И вдруг мы узнаем в этом нечто очень хорошо нам известное. Пушкин сам дает мотивированное и исчерпывающее объяснение развязки трагедии. «Каменный гость» помечен 4 ноября 1830 года, а в середине октября Пушкин написал «Выстрел», автобиографичность которого никто не оспаривает. Герой «Выстрела» Сильвио говорит: «Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем... Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!» Из этого можно заключить, что Пушкин считал гибель только тогда страшной, когда есть счастье. <…>
Как бы то ни было, «Каменный гость» — единственная из «Маленьких трагедий», не напечатанная при жизни Пушкина. Действительно, можно легко себе представить, что то, что мы теперь раскапываем с превеликими трудностями, для самого Пушкина плавало на поверхности. Он вложил в «Каменного гостя» слишком много самого себя и относился к нему, как к некоторым своим лирическим стихотворениям, которые оставались в рукописи независимо от их качества. Пушкин в зрелый свой период был вовсе не склонен обнажать «раны своей совести» перед миром (на что, в какой-то степени, обречен каждый лирический поэт), и я полагаю, что «Каменный гость» не был напечатан потому же, почему современники Пушкина при его жизни не прочли окончания «Воспоминания», «Нет, я не дорожу...» и «Когда в объятия мои...», а не потому, почему остался в рукописи «Медный всадник». <…>
1947
29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ
Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...
10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…
Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...
До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»
Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...
31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…
31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...
23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…
Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...
январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)
Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...
25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…
25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...
8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»
Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...
Вас заинтересует
Популярное
- Список летнего чтения для 5 класса
- Список летнего чтения для 6 класса
- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?
- Стихи поэтов-фронтовиков о войне
- Список летнего чтения для 8 класса
- Список летнего чтения для 7 класса
- Список летнего чтения для 9 класса
- Чисто по-человечески. Материалы к урокам
- Список летнего чтения для 10 класса
Мозаика
- 26–29 октября 2024 — Семинар для учителей словесности и тренинг для театральных педагогов в рамках проекта «БДФ Школа» (Москва)
- 18.01.2017 - Начало второго семестра Школы юного филолога НИУ ВШЭ
- Открытое письмо учителей литературы, методистов, вузовских преподавателей
- Танец с цветовыми пятнами. Выпуск №114
- Нацбест: премиальный сезон открыт
- Что было раньше: яблочко или Apple?